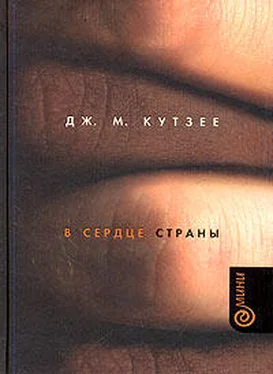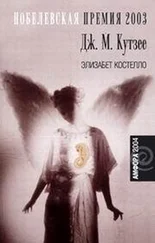– Ты знаешь, что я ощущаю, Анна? Великую пустоту, пустоту, заполненную великим отсутствием, отсутствием, которое есть желание быть заполненной, быть завершенной. Но в то же время я знаю, что ничто меня не заполнит, потому что первое условие жизни – вечно желать, иначе жизнь прекратится. Это принцип жизни – вечно завершаться. Завершение не завершает. Только камни ничего не желают. И как знать, быть может, в камнях тоже есть дырки, которые мы никогда не обнаруживали.
Я наклоняюсь над ней, я ласкаю ее руки, держу ее вялые ладони в своих. Вот что она от меня получает – колониальную философию, слова, за которыми не стоит история, в то время как ей хочется историй. Я могу вообразить женщину, которая сделала бы этого ребенка счастливым, наполнив его рассказами из прошлого, которые действительно случились: как дедушка убежал от пчел, потерял свою шляпу и так и не нашел; почему луна прибывает и убывает; как заяц перехитрил шакала. Но эти мои слова приходят из ниоткуда и уходят в никуда, у них нет ни прошлого, ни будущего, они свистят по равнинам в унылом вечном настоящем, никого не насыщая.
227. У нас были визитеры.
Анна подстригала мне волосы. Я сидела в утренней прохладе на табурете возле двери в кухню. Ветерок приносил издалека приглушенный подземный шум насоса – еще один звук в мире, полном знакомых воскрешенных звуков. Я могу представить себя слепой и счастливой в таком мире: лицо подставлено теплым солнечным лучам, уши настроены на звуки вдали. Ножницы Анны скользят по моему затылку, холодя его, послушные моему шепоту.
Затем в дверях вдруг возникает сумятица, мелькают коричневое, серое, черное, пространство распадется и вновь собирается перед моими глазами, и Хендрик приходит и уходит, его штанины со свистом трутся друг о друга, подошвы хрустят по гравию; и Анна сразу же пускается бежать следом за ним, согнувшись, выронив расческу и ножницы, и неподвижность без всякого перехода сменяется движением, как будто вся ее жизнь со мной была всего лишь замершим мигом, выхваченным на бегу. Я не успеваю встать, как они скрываются за изгородью вокруг вагона для стрижки овец, потом – за сараем и несутся вниз по склону к руслу реки.
Со скатертью, накинутой на плечи, и наполовину остриженными волосами я прохожу через дом и оказываюсь перед двумя незнакомцами – двумя всадниками. Неопрятная, захваченная врасплох – казалось бы, преимущество на их стороне; но я-то знаю, что они на моей земле, они меня побеспокоили, это именно они должны извиниться и изложить свое дело.
– Нет, – говорю я им отрывисто, – он уехал сегодня, рано утром… Нет, я не знаю куда… С ним поехал мальчик… Вероятно, поздно. Он всегда поздно возвращается домой. Это отец и сын, соседи. Когда же я в последний раз видела соседа? Да и видела ли когда-нибудь? Они не говорят, зачем приехали. Они приехали по какому-то мужскому делу. Изгороди снесены, свора собак вырвалась на свободу, началась эпидемия у овец, саранча все заполонила, не явились стригали – они мне не говорят, в чем дело. Это настоящие катастрофы, как же мне справиться с ними одной? Если я сделаю Хендрика своим управляющим, сможет ли он справиться с фермой, в то время как я буду стоять у него за спиной с суровым лицом, делая вид, что он—моя марионетка? Не лучше ли обнести ферму колючей проволокой, запереть ворота, убить овец и отказаться от вымысла о фермерстве? Как я могу убедить таких вот закаленных мужчин, что я из одного с ними теста, тогда как это явно не так? Они проскакали такое расстояние впустую, они ждут приглашения спешиться и подкрепиться; но я продолжаю молча стоять перед ними столбом, и наконец, обменявшись взглядами, они дотрагиваются до шляп и поворачивают лошадей.
Это тяжелые времена. Будут еще визиты, придется отвечать на более сложные вопросы, пока визиты и вопросы не прекратятся. Будет сильное искушение пресмыкаться и хныкать. Какой идиллией кажутся прежние времена! И как заманчиво, хотя и по-другому, будущее в саду за колючей проволокой! Две истории мне в утешение – ведь истина, боюсь, в том, что нет ни прошлого, ни будущего, что среда, в которой я живу, – вечное настоящее, в котором—лежу ли я под весом этого сурового мужчины, ощущаю ли холодок от ножниц у моего уха, омываю ли покойника или приправляю мясо – я невольно являюсь путеводной звездой, вокруг которой вращается вся эта феноменальная вселенная. Я прижата, но мной не завладели, меня пронзают, но сердцевина остается нетронутой. В душе я все еще богомол-девственник былых времен. Хендрик может брать меня, но это я его держу.
Читать дальше