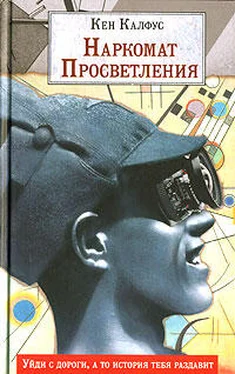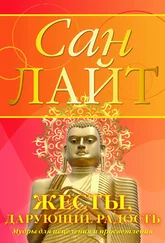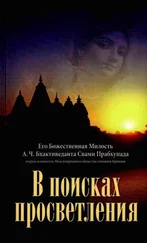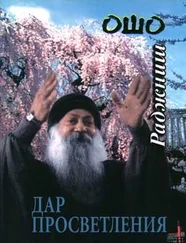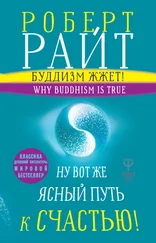— Эй, ты, — сказал он. — Доброе утро.
Девочка не подняла головы. Кисти рук у нее, в отличие от всего остального тела, были изящные, с длинными, незагрубевшими, выразительными пальцами.
— Милая, нельзя ли мне чаю? Я заплачу. Прошу тебя, пожалуйста, принеси самовар.
Девочка ничем не показала, что слышит. Он отчаялся и вышел из дома, оглядев двор в поисках старика и старухи. Казалось, маленький придорожный поселок полностью вымер. Грибшин покачал головой, сетуя на отсутствие чая, и пошел обратно на железнодорожную станцию.
Придя, он обнаружил, что за прошедшие часы ничего не изменилось, если не считать увеличения орды журналистов и любопытных на платформе и вокруг дома начальника станции. В серости утра лица гостей Астапова были насыщены странным светом. Грибшин предположил, что это от предвкушения, а еще — оттого, что они находились в точке, к которой прикованы были взгляды всего мира. Граф не умер за ночь, но больше об его состоянии ничего известно не было.
Сотрудники фирмы Патэ нашлись в зале ожидания для пассажиров — они устанавливали синематографическую камеру в ожидании утреннего врачебного доклада. Мейер отвлекся на неисправный прожектор и только рассеянно кивнул, когда Грибшин сказал, что его не пустили ночевать в вагон для прессы. Грибшин принялся за дело — менять испорченную лампу на новую, взятую из драгоценного запаса привезенных с собой юпитеров.
Когда он спускался с лестницы, в помещение хлынули журналисты — десятки, в основном русских, но среди них были представители газет со всей Европы, а также из Америки, Японии и даже Индии. Скоро их стало больше, чем мог вместить зал ожидания, который до нынешней недели не видывал людей в количестве сколько-нибудь близком к пределу своей вместимости, а больше привык давать приют одинокому крестьянину с завязанным бечевкой мешком, едущему на соседнюю станцию.
Журналисты не говорили вслух о том, что конкурируют за стоячие места, но по толпе уже пробегали первые волны толчков. Напряжение в битком набитом зале все росло, и словно бы становилось жидким, скапливаясь лужей вокруг большой синематографической камеры Мейера, которая стояла в передней части комнаты и теперь заслоняла вид прижатым к ней журналистам. Мелкие лужицы недовольства образовались вокруг обычных камер, поставленных другими журналистами у кафедры. Репортеры потели от тепла, выделяемого юпитерами и преющей человеческой массой в зимней одежде. Их бормотание сливалось в раскаты, словно где-то вдали полыхали жаркие молнии.
Пока они ждали доктора Маковицкого, один репортер встал перед синематографической камерой, загородив обзор и пересекши невидимый барьер, который его коллеги уважали по какому-то неписаному соглашению. В этот момент в дверях показался лысый, усатый человек в черном пальто. Мейер сделал знак Грибшину.
Журналисты, которые остались стоять около двери, чтобы раньше коллег поспеть на телеграф, закричали первыми:
— Он жив? Ну что, сегодня?
Именно эту сцену хотел заснять Мейер. Когда журналисты бросились вперед, Грибшин изо всех сил толкнул человека, загородившего камеру. Глядя в сторону и делая вид, что он всего лишь один из журналистов, желающих протиснуться поближе к Маковицкому, он намеренно устремил свой вес в определенном направлении и вложил бо́льшую часть импульса в локоть. Репортер пошатнулся. К тому времени, как он вновь обрел равновесие, пространство было расчищено.
— Шорт побьери, это еще что такой? — Человек повернулся. То был англичанин, захвативший койку.
Грибшин невозмутимо сказал:
— Не загораживайте объектив.
Хайтовер пихнул его в ответ, не затрудняя себя объяснением. Грибшин твердо стоял на месте. Пока Маковицкий шел к передней части комнаты, они продолжали толкаться. Вокруг беззвучно шла такая же борьба.
У Маковицкого в руках была стопка бумаг. Он загадочным образом сохранял самообладание среди безумства толпы. Впрочем, он и сам был в какой-то степени загадкой — словак, родом из Венгрии, приехал в Ясную Поляну много лет назад, чтобы остаться со своим духовным наставником. Он щурился в свете прожекторов, и его лысина сверкала, как небольшое солнце. Если глядеть на него через объектив камеры, получалось, что он стоит на фоне литографического портрета царя, висевшего в раме на стене за его правым плечом. Интересный, непреднамеренный эффект. Внезапно доктор, выбрав только ему самому ведомый момент, без каких-либо предварительных откашливаний начал читать. Человеческий гул разом стих.
Читать дальше