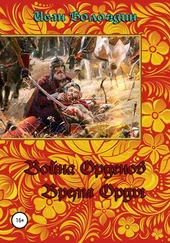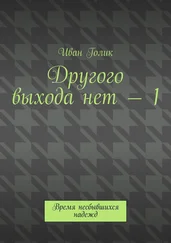В доме горела керосиновая лампа.
Отец сидел на постели, облокотившись на подушки, и запивал легкий послевоенный ужин черным, как траур, чаем.
— О бедная Марта… — заплакала мать, рассматривая пришитую к пиджаку фотокарточку. — Несчастной судьбы сестра… — Затем, все еще продолжая причитать, она осторожно выпростала фотокарточку и спрятала ее среди других таких же снимков умерших в разное время родственников.
Я прошел в свою комнату и упал на кровать.
Я лежал, оплакивал рано наступившую юность и всем своим разгоряченным сознанием понимал, что не жить мне теперь без Талико…
Москва,
1968
В семи верстах от города, над шоссейной дорогой, за крутым поворотом в подъем, виднеется одухотворенное светом и солнцем деревенское кладбище, приткнувшееся железным боком ограды к мандариновым плантациям совхоза.
В глубине мимозовой рощи кладбища, на небольшом, густо обсаженном какими-то кустарниками зеленом дворике красуется беленький дом в два окна.
Говорят, что этот домик несколько лет назад построил один очень известный в нашем приморском городе человек для своей юной любовницы.
Но вы этому не верьте!
А повыше кладбища, там, где кончаются мандариновые плантации, на самом гребне холма, дико зеленеющего гигантскими эвкалиптами, пальмовыми аллеями и дымчато-голубоватыми кипарисами, образовавшими причудливую корону, выступают два великолепных корпуса с башенками, окрашенными в небесный цвет.
Эти четырехэтажные творения из белого камня и красного кирпича построил в давние времена заезжий богатый немец для больной чахоткой дочки.
И это правда!
Заботливый отец ничего не пожалел ради выздоровления любимой дочери.
Все комнаты были украшены самыми веселыми росписями.
Больная, сидя в одной из трехсот шестидесяти шести комнат, предоставленных ей по числу дней года, могла наблюдать за кропотливой жизнью близлежащих деревень и любоваться морем в солнечную погоду. Но все заботы отца оказались бессильными перед болезнью. Девушка вскоре умерла, так и не налюбовавшись всеми видами, открывавшимися из многочисленных комнат.
Теперь в этих зданиях располагается какая-то лечебница. Какая именно, затрудняюсь сказать. Но, судя по тому, с каким нескрываемым состраданием глядят вослед идущим по направлению к лечебнице мои добрые односельчане, там нет ничего такого, что могло бы пригодиться здоровому человеку.
Во всяком случае, даже старый кладбищенский сторож, седоусый Иорика, живущий непосредственно на кладбище, деля в домике по окну с беленькой женщиной Клавой, непревзойденной искусницей по венкам и первой обольстительницей мужчин нашей деревни, считает, что кладбище куда более предпочтительное место для службы, чем вышеупомянутая лечебница…
Мне, конечно, трудно судить, прав Иорика или нет, поскольку я, по известной причине, не имею чести служить ни в лечебнице, ни на кладбище, а от избытка времени занимаюсь сплетнями, что в некоторых серьезных кругах именуется еще писательством. Правда, как сами вы можете убедиться, я и здесь не преуспел, однако не теряю надежды понравиться какой-нибудь дородной женщине и вкусить наконец радость настоящего признания, хотя очень уж это дело обманчиво.
Иорика, наверное, прав.
Где еще в наше время можно найти более спокойное и надежное от всевозможных житейских бурь место службы, как не на кладбище?
Ценя свое место кладбищенского сторожа, Иорика не без гордости напоминает об этом время от времени Давиду, торгующему разбавленным керосином в лавке напротив кладбищенских ворот, через дорогу, на спуске.
Давид, как всякий человек, занятый созиданием «материальных ценностей», плохо понимает Иорику, хвастающего своим положением кладбищенского сторожа.
— Тебя послушать, — замечает Давид, брезгливо сплевывая себе под ноги, — ты создал самое справедливое общество: каждому по три аршина земли… Не пойму, чем тут гордиться — живешь среди могил…
— Уж ты того, Давид, — возражает Иорика, сильно кося глазами и не умея найти правильного ответа. — Ты уж чересчур того…
— Глупость говоришь, старик! Что значит — того? — Давид эти слова произносит в самом обидном тоне, сопровождая уничтожающей усмешкой, отчего сердце Иорики готово тут же выскочить из груди и отхлестать обидчика по щекам, но, не в силах этого сделать, так часто и сильно колотится в груди старика, что тот едва переводит дыхание.
Читать дальше
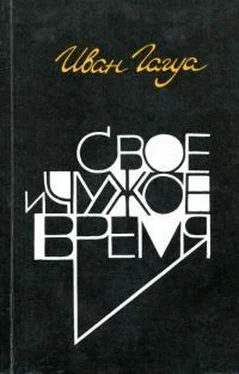






![Александр Долинин - Чужое время [СИ litres]](/books/404318/aleksandr-dolinin-chuzhoe-vremya-si-litres-thumb.webp)