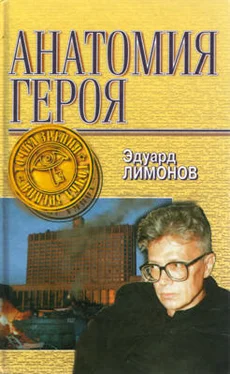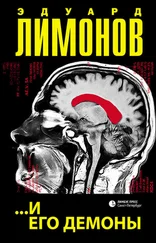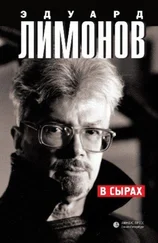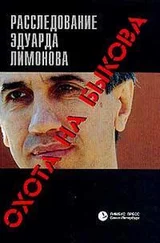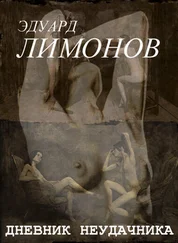Она, конечно, очень страдала оттого, что я подавлял многие ее болезни и инстинкты. Я подавлял, просто-таки репрессировал ее алкоголизм ("Ты как террорист!" — кричала она злобно), ее нимфоманию (во всяком случае, она вынуждена была сдерживаться), ее слабоволие, пассивность (ей хотелось покинуть мой марафонский забег и лечь на обочине), ее инстинкт доминирования, она хотела быть лидером (позднее юноша Тарас выразил это простой фразой: "Она не хотела быть «замом», сама хотела стать боссом, вот и стала"), я подавлял ее несомненную волю к смерти. Были еще многие мои репрессии, уже менее значительные, как бы подвиды репрессий, так, например, я ложился не позднее 24 часов или часу ночи, а вставал в 8–8.30 и в девять уже работал. Она хотела более хаотичной жизни. Она хотела есть больше рыбы, а я покупал свинину, потому что она была во Франции дешевле. Она любила оттянуться на смаковании в сотый раз своих собственных музыкальных записей, а я насмешливо замечал, что у нее мания величия (впоследствии «это» таки развилось в манию величия), на основании чего она придумала, что я не люблю музыку. Потому что ей нужно было оправдать свои изъяны, инстинкты и болезни моими «недостатками». Она договаривалась даже до того, что якобы это я виноват в том, что она пьет, она утверждала, что воспринимала бы алкоголь нормально, если б я позволял, чтобы она пила понемногу… На что я резонно возражал, что и до меня, с другими мужчинами, она пила, и что на протяжении лет я не раз, бывало, соглашался попробовать и давал ей пить и пил с нею сам, но всякий раз этот эксперимент рано или поздно заканчивался ее чудовищной какой-нибудь сценой и многодневным обычно загулом, неизвестно где и с кем.
Мой способ жизни был способом жизни героя, решившего победить мир и поставившего на службу этой цели всю жизнь. В обмен на достижение цели я, конечно, отказался от множества мелких удовольствий. Покойный французский критик Матью Галей, писавший обо мне в «Экспрессе», назвал статью обо мне "Организованный бунт". Ну да, я очень организованно бунтовал, понимая, что только такой бунт будет услышан и увиден и достигнет цели. Конечно, мой режим был репрессивен для нее. Однако под этим режимом она написала на целых четыре тома книг, записала один диск и создала второй. Репрессивный режим обернулся для нее огромной пользой. С криками и истериками, она все же позволяла мне держать ее на цепи целых тринадцать лет. Вряд ли когда-либо еще будет в ее жизни такой продуктивный, светлый, сознательный и умный период. (А в моей — такой безумный, ибо результатом все же был некий симбиоз моего разумного начала и ее безумного).
* * *
"Концепция, согласно которой мужчина будет ранен в своей «чести», если его женщина его обманывает — тогда как обратное есть правда, — абсурдна; из двух в адюльтере это женщина, а не мужчина теряет «честь», не по причине сексуального факта самого по себе, но с высшей точки зрения, так как если брак есть вещь серьезная и глубокая, женщина, вступая в брак, свободно соединяется с мужчиной и в адюльтере рвет эти этические узы верности, то она деградирует прежде всего в своих собственных глазах. Мы можем заметить походя, как глупо высмеивать обманутого мужа: таким же образом можно высмеять жертву воровства или командира, которого, вопреки присяге, предал и покинул его солдат. По крайней мере, если не связывать защиту «чести» с выработкой у мужа качеств тюремщика или деспота, безусловно, несовместимых с высшей концепцией мужественного достоинства".
Юлиус Эвола, "Скачка на тигре"
* * *
Я представляю, как ты идешь на своих высоких ногах, и высоко вверху трутся друг о друга черные губы твоей страстной щели. И моя бедная голова замыкается, она горит, из нее идет дым паленого мяса. Я ли прожил с тобой тринадцать лет и никогда не насытился тобой — мрачной, страстной, безумной и безжалостной стервой? Я ли?
Будут выборы. Я должен думать о выборах. О лозунгах: "Лимонов- это вызов банде… всей этой банде ворья, настоящего, прошлого и будущего" или… "У Лимонова, единственного из всех кандидатов, — лицо, а не рыло!" Вместо этого я лежу и вижу, как я расчленяю твой тонкий труп. В ванной, я привел, заманил тебя в ванну, ударил ножом (куда бить?) и отрезаю голову. Голова тяжелая, я несу ее в метро в пакете, и меня останавливают. У меня отбирают твою голову, я прижимаю ее к груди, к животу и не отдаю. Нет, нет… мое… Окровавленные красные волосы, сбитые в колтуны. Я увидел их у тебя давно — эти окровавленные волосы, я увидел их 30 марта 92 года в "госпитале Бога" в Париже… Не отбирайте у меня ее голову. И я прижимаю твою голову к паху. Мое!
Читать дальше