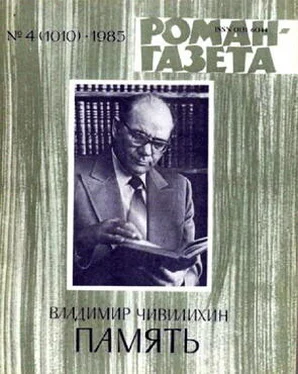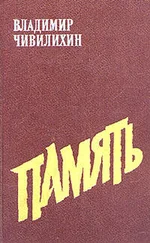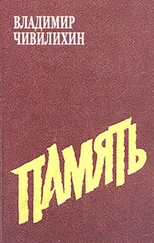Летом 1942 года я, как и многие другие мои ровесники, пошел в депо учеником слесаря, но встретившая меня в мазутке, шатающегося от голода и усталости, школьная учительница Раиса Васильевна Елкина, из ленинградок-беженок, шла со мной под осенним дождем до дому и уговорила маму отпустить меня в железнодорожный техникум, что эвакуировался к нам из Полтавы. Спустя месяц после начала занятий меня приняли туда без экзаменов, потому что семилетку закончил с похвальной грамотой. Через тридцать три года мне удалось разыскать Раису Васильевну в Ленинграде, а когда она собралась на пенсию, я послал в ее последнюю школу большую телеграмму…
Много в войну было такого, о чем вспоминать и писать тяжело. Старший мой брат Иван был на фронте, и я никогда не забуду, как понесли по нашей улице похоронки. Мама металась от окна к окну, чтобы получше видеть однорукого посыльного из военкомата, который медленно шел от дома к дому… Вечерами собирались к нам соседки. Мама доставала пухлую от частого употребления колоду карт и, раскладывая их, тихо говорила: «Ня знаю, Фядосья, ня знаю. Карты говорят, что живой. Гляди! Вот дама, а вот он второй раз выпадает рядом… Вот ишшо выпал…»
Война запомнилась мне больше работой, чем учебой. Надо было и огород копать, и сено косить, и дрова пилить, и стайку чистить, а техникум куда нас только не «бросал». На снегоборьбу, где мы непременно обмораживались, в шахты Анжеро-Судженска— наваливать на ленту уголь, на картошку в подсобное хозяйство, в депо, где мы катали паровозные скаты и тянули дышла. Как тянули, не знаю…
Первый большой город, что я увидел, был Томск, куда я приехал в войну добывать очки, — в пятнадцать лет мне уже доставляла неудобства моя близорукость. Томск — главный культурный центр нашего района Сибири, и к нему всегда тянулась тайгинская молодежь. Старший мой брат там учился, сестра тоже, и, собственно, первый большой каменный дом, увиденный мною, был Томский университет — этакая длинная белая громада за железным забором, которая и сейчас выделяется в центре города своей основательной старинной статью.
Потом был Новосибирск, запомнившийся одним редким впечатлением. Война еще продолжалась, нужда во всем возрастала, однако новосибирцы достроили свой огромный театр оперы и балета, куда мне страстно хотелось попасть, потому что я никогда не был в театре.
В последнюю военную зиму я кочегарил на паровозе. По возрасту и зрению я не подходил для такой работы, но продолжалась война, нужда во всем, в том числе в рабочих кадрах, возрастала, и мы, техникумовские студенты, растягивая практику, проводили зимние каникулы в поездках. Обледеневшая, скользкая палуба тендера, тяжелая кувалда, которой прихадилось часами разбивать большие глыбы че-ремховского угля, и руки сводило от этой работы, нестерпимый жар зольника, забивавший легкие мелкий едучий пепел, угольная пыль в ресницах, что никакими силами не отмывалась.
Вспоминаю день, когда мы привели из Тайги состав с зачехленными артиллерийскими орудиями в Новосибирск, отцепились, экипировали локомотив. Бригада устроилась отдыхать, а я, ополоснувшись в душевой и сменив мазутку на плохонький костюмчик, побежал сквозь пургу в центр города. Театр оперы и балета величаво царил над ним своим серебристым, будто подернутым изморозью, куполом. Билеты были, но старушка в гардеробе долго не хотела принимать мою телогрейку…
Огромный гулкий зал, необъятная сцена. «Князь Игорь»! Неописуемые краски декораций, величавая музыка, половецкие пляски, арии Кончака, Владимира Галицкого, Игоря — все это было почти нереально, как во сне. Холодок пробирал по спине, сердце колотилось, словно при тяжелой работе. Пальцами я растягивал уголки глаз, чтобы, лучше видеть, или зажмуривался, чтобы раствориться в тумане забвения и плыть в волнах восторга…
Летом того года был Красноярск, за ним — послевоенная Москва проездом, с вокзала на вокзал, и вот Чернигов, город, наградивший родниковым истоком будущих интересов и определивший, можно сказать, мою судьбу. Сестра вернулась с детьми в него, как только город освободили. Ее поселили в подвальную комнату, куда она пустила семью из пяти человек, тоже оставшуюся без кормильца и крова, и так жила, работая медицинской сестрой в том же военном госпитале. А я приехал посоветоваться со старшей сестрой, как и где нам всем жить, чтоб хоть немного полегче было.
Деньги на эту дальнюю дорогу образовались так — мы с матерью продали за девять тысяч послевоенными дешевыми деньгами нашу половинку дома, купили за пять с половиной полусгнившую развалюху, а на остаток я поехал. Страшенные цены были тогда! Буханка хлеба стоила пятьсот рублей, и, следовательно, «новая» халупа наша могла быть куплена-продана за десять буханок хлеба с довеском… Несмотря на то, что у меня был билет на поезд, до Москвы четверо суток пришлось ехать на подножках и крышах вагонов — так много народу двигалось тогда из Сибири в Россию. До Чернигова ехал еще сутки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу