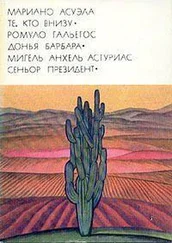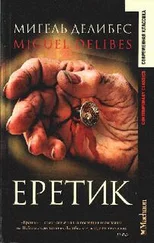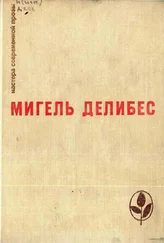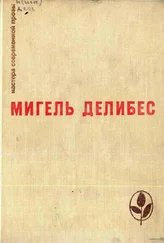Такой способ увековечивания себя, как фотография, не прельщает меня ни в малейшей степени. В старину в моем селе люди снимались на карточку, переболев гриппом, раз в два-три года. Я так и не смог понять этот обычай. Нетрудно догадаться, что на фотокарточках все выходили с осунувшимися, изможденными лицами, с грустными после недавней болезни глазами. Я полагаю, смысл здесь заключался в том, что человек мог потом смотреться в зеркало и сравнивать свое отражение со снимком: «Теперь я выгляжу куда лучше; вот и отступилась от меня смерть». Так или иначе, это была очень эксцентричная традиция, вероятно не сохранившаяся сегодня даже среди стариков. Ну, а молодежь нынешняя, что и говорить, совсем другая.
Не верится даже, что у Вас – такой, какой я Вас себе представляю, – десятилетняя внучка, я имею в виду старшую. Правда, Вы рано вышли замуж, да и Ваша дочь тоже, и все-таки… Кстати говоря, проживая совместно с дочерью, зятем, двумя внучками и холостым сыном, Вы обладаете такими возможностями общения, каких лишен я, что, видимо, и объясняет Ваше пренебрежение к телевидению. Какая Вам в нем нужда? Иное дело я. Оглядываясь назад с высоты сегодняшнего жизненного опыта, я задаюсь порой вопросом: а не выиграл ли бы я, женившись в свое время? Брак так же заразителен, как и самоубийство. А в моей семье всегда преобладали холостяки. Из четырех выживших детей (родилось-то нас восемь) женился только старший, Теодор, а из семьи моей покойной матери – лишь она одна; ее братья Онофре, Бернардо, Сиксто и Леонсио остались холостыми и оказались слабосильными – ни один не дотянул до шестидесяти, – и, за исключением моего покойного дяди Леонсио, эмигрировавшего в Аргентину и покоящегося в Ла-Чакарите, все они похоронены в Креманесе.
Как Вы можете убедиться, семейная традиция влияет на человека в такой же степени, как гены или среда, если только это не гены и среда формируют эту самую традицию. Вполне вероятно, что женись в свое время мой покойный дядя Онофре, патриарх семьи, царствие ему небесное, то и мы, остальные, последовали бы один за другим его примеру. Нами, людьми, в том числе семьями и сообществами, неизменно правит инерция.
Простите мне такое обилие семейных подробностей и примите самый сердечный привет от Вашего преданного слуги, целующего Ваши ноги.
Э. С
18 июня
Дорогой друг!
Нет, нет, прошу Вас, не говорите так! Я не помню дословно своего последнего письма, но, думаю, Вам даже в шутку не следует называть меня сатиром-кровосмесителем. С покойной сестрой Рафаэлой я, за исключением последних лет, после выхода ее на пенсию, почти и не жил совместно и потому, в определенном смысле, воспринимал ее как лицо постороннее. Этим же, возможно, объясняется и то упоительное восхищение, которое испытывал я всегда перед нею. Но чтобы я был влюблен в Рафаэлу? Какая несуразность! Вам не следует заключать этого из моего пылкого преклонения перед нею. Повседневное общение развенчивает, и не исключено, останься Рафаэла, подобно Элоине, подле меня, я никогда и внимания не обратил бы на ее надменную красоту, Однако покойная Рафаэла наезжала лишь ненадолго, и каждый раз, как она нас навещала, я открывал в ней что-то новое, какую-нибудь гримаску, жест, движение, которые ускользали от меня до тех пор. Признаюсь даже, что, обнимая ее, я всегда чувствовал дрожь, как если бы сжимал в объятиях не имеющую отношения к семье красивую женщину. Но делать из этого вывод, что я был в нее влюблен?…
Вчера, уже лежа в постели, я не меньше полудюжины раз писал Вам мысленно это письмо, с каждой новой редакцией добавляя какой-нибудь очередной довод, кажущийся мне убедительным. И тем не менее сейчас, несмотря на такое количество черновиков, я пуст, порвана путеводная нить, иссяк источник мыслей, бивший вчера у меня в голове. Я чувствую себя бессильным, беспомощным, ни к чему не способным. Это состояние случается у меня не так уж и редко. А вот по ночам я словно возрождаюсь из пепла, и мозг мой вступает в фазу особой ясности, какой не знает при свете дня. След профессиональной деятельности? Не стану спорить. Факт то, что вчера ночью мое письмо к Вам было обоснованным и убедительным, а сегодня весьма далеко от этого. Словно кто-то провел у меня в голове мокрой тряпкой, ровно по школьной доске, Как разубедить Вас относительно моих чувств к покойной сестре? Я теряюсь, мой рассудок не в состоянии собраться с мыслями. Порой, уже в постели, если мне не дает покоя какая-нибудь самая что ни на есть пустяковая мысль, я нахожу в себе силы подняться и набросать черновик с основными положениями, чтобы закрепить на бумаге логику изложения, структуру рассуждения, то, что я желал бы выразить, и в последовательности, в которой нужно это делать. Только тогда, зная, что мои соображения записаны, могу я улечься со спокойной душой. Но что это дает мне в конечном итоге? Почти ничего. На следующее утро черновик уже не в состоянии пробудить мою мысль, как высохшее дерево, которое не может дать цвет; я ничего не могу в нем почерпнуть. Еще накануне я запросто нарастил бы на этот скелет живую плоть, но после бессонной ночи едва способен нанести на него немного мертвечины, кое-как прикрыв обнаженный костяк. То, что вчера было продуманной и выразительной схемой, отлаженной системой хорошо подогнанных умозаключений, оборачивается наутро набором безжизненных слов, неспособных дать какой-либо импульс и словно написанных чужой рукой.
Читать дальше