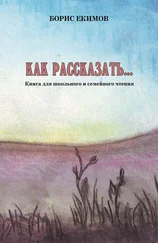Теперь ни скворечников нет, ни скворцов. А почему, не больно понятно. Первой убрала птичий домик премудрая тетка Фрося. Это я помню, как она объяснила соседям: «Они помидоры дергают. Сама видала. Дерг да дерг…»
Мои домашние ей не поверили, и другие соседи – тоже. Всю жизнь скворцы на усадьбе. И ничего не дергают. По грядкам ходят, добывая червяков из земли да с листьев. А тетка Фрося, она не больно людимая. Вот и скворцы ей помешали. «Изнистожить…» – постановила и поломала скворечник.
Шло да шло время. А нынче – ни одного скворечника. Во всей округе. И скворцов нет. Некому по весне и петь. Почему? Не больно понятно. «Этажей», слава богу, на нашей окраине нет. Те же простые дома, огороды, сады. А скворцы куда-то пропали. Может, потому, что скворечников нет, «изнистожили». Вот и песен скворчиных нет по весне. А бывало, так заливались, заслушаешься.
Чуть не забыл о самой дорогой для мальчишек птице. Скопчиками их звали. Хотя правильное название – кобчик, семейство соколиных. Но это теперь я знаю: кобчик да пустельга. А тогда каждый уважающий себя пацан имел своего скопчика. Вышел на улицу, скопчик на плече сидит: желтоглазый, с острым крючковатым клювом, в рыжем да пестром пере. Шевельнул плечом, чуть подбрасывая, скопчик взлетел, сделал высокий круг, прокричал: «Ки-ки-ки…» И снова на плечо уселся. Красивая птица. Одно слово – сокол.
Скопчиков забирали из гнезд «пуховичками», еще без пера. Загодя находили гнезда в займище, на холмах Задонья. Обычно на высоких деревьях. Найдешь гнездо, следишь за ним. В свою пору забираешь лишь одного птенца из трех ли, четырех; за пазуху его – и домой. Начинается немалая колгота: теплое гнездо, кормежка. Прожорливый птенец. Орет и орет. Лишь успевай ловить кузнечиков, а потом – ящерок, сусликов. Ловишь и кормишь. Ловишь и кормишь. Птенец растет, потом оперяется. Привыкает к тебе. Все лето – рядом. Учишь его летать. Подбросишь, он недоволен, кричит: «Ки-ки-ки…» Но понемногу привыкает. Живет целое лето. Лишь в августе начинает надолго улетать на охоту. Всякий день возвращается. Угощенье примет. Посидит у тебя на плече, желтоглазый красавец. Снова улетит. А потом – навсегда.
Скопчиков все любили. Даже взрослые. Сначала ворчат: «Лучше бы курицу выкормить…» Но потом привыкают. «Где он, наш…»
Теперь уже он далеко-далеко – скопчик из ушедшего детства, из нашего старого дома, который не только людей привечал, но всякую тварь живую.
Малые птахи журчали в смородиновой гущине. Пестрокрылый удод важно расхаживал по огороду, запуская в землю длинный кривой клюв. Кормился. А потом усаживался на конек крыши и долдонил: «У-у-да… У-у-да…», распуская и собирая радужный веер нарядного гребня.
Все это было при моей, слава богу, памяти. Теперь остались лишь воробьи, сороки да горлицы, которых прежде не знали. Осенью да зимой прилетают синицы, дятлы стучат. Но воронья развелось – несчетно. Вечерами да по утрам долгими караванами тянутся они на прокорм, на ночлег. Порою обсядут двор, орут и орут, ничего доброго не обещая.
Это я сейчас вспоминаю, словно процеживаю, годы и годы, свои и чужие. То, что было, и то, что слышал, когда мы жили все вместе, под одним кровом. Получаются житейские правила ли, законы старого дома.
Тетя Нюра любила свою молодость вспоминать, детство, родное Забайкалье, Самаринский затон, рассказывала:
– Раньше пекарен не было, каждая семья для себя хлеб пекла. Не всякий день, а на два-три дня. А кто и на неделю. Бывает, кончится хлеб, не рассчитали. Это не беда, можно у соседей занять. Завтра будешь печь и отдашь. Одна соседка, у нее муж кочегаром на пароходе плавал, она у нас часто занимала. Займет и отдаст, обычное дело. С мукой, с хлебом тогда было хорошо, не бедствовали. Но хлеб хлебу – рознь. Наша мамочка хороший хлеб пекла, пышный, подъемистый. И караваи большие. А у соседки маленькие каравайчики. Но хлеб тогда не по весу был. Каравай заняла, каравай и отдала. Мамочка соседке ничего не говорила, а вот нам внушала: «Доченьки, когда вырастете, будете своей семьей жить, хлеба печь, то, если придется хлеб занимать, обязательно отдавайте каравай больший, чем брали. Обязательно чтобы отдать больше. Так положено».
– Наша мамочка такая была чистотка. Полы тогда были некрашеные. Другие хозяйки тряпкой повозят до полу, и все. А мамочка сначала скоблит добела, потом – голиком, таким веником из жестких прутьев, да еще дресвой. Это речной песок у нас был, крупный, а потом уже начисто промывает. А если праздник, то еще и натирает воском. Прямо сияют полы. И нас всегда приучала. «Доченьки, помощницы…» А мы и рады, стараемся.
Читать дальше
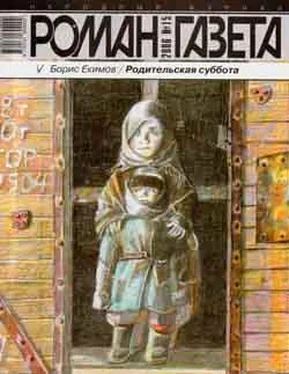




![Борис Екимов - Рассказы [2006]](/books/413651/boris-ekimov-rasskazy-2006-thumb.webp)