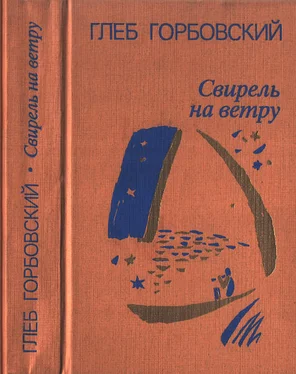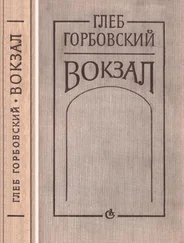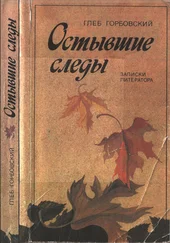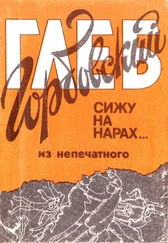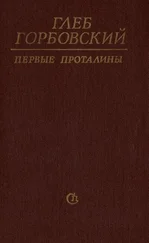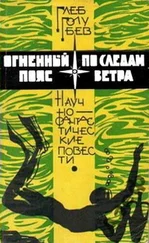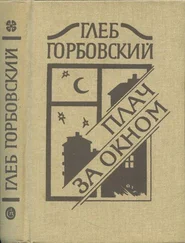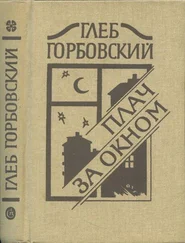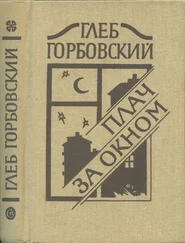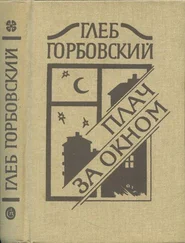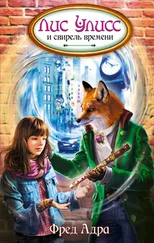— Мня-я… Может, и читал, — скорчил презрительную гримасу транссибирский коммивояжер. — Только давно. Когда в пещере у троглодитов угол снимал.
— Ах, ах! — воодушевился ироничный Купоросов, подпрыгивая от удовольствия. — Какие мы сурьезные, интеллигентные какие! Редкие, антикварные, как говорят… в Махач-Уде.
— Каждому свое… — пожал плечами Подлокотников. — И не в Махач-Уде, а, извиняюсь, в Махач-Кале.
— «Каждому свое» — фашистский лозунг. На воротах концлагерей вывешивали, — не отрывая взгляда от «дюдюктива», проскандировал Макароныч.
И тут я в дискуссию втиснулся. Не утерпел.
— Да серьезную-то литературу в дороге… — начал было я и вдруг слышу:
— Серьезную литературу, которая классика, все эти книги великих писателей, никто сейчас не читает. Ни в дороге, ни дома. Потому что эти книги — страшные. О жизни и смерти непременно. А если кто и читает, то — больные. Здоровые таких книг сторонятся. Потому что — инстинкт. На словах — обожают, поклоняются. Ах, «Братья Карамазовы»! Ах, «Анна Каренина»! Гёте — ах! А наяву, наедине с собой — избегают. Кусают что-нибудь помягче.
Выговорился Пепеляев и опять закуривать приспосабливается. А в вагоне и так дышать нечем.
— Шли бы в тамбур курить, — бросаю Пепеляеву вызов.
Студент смотрит на меня долго, словно судьбу мою решает. И вдруг подмигивает. Одним глазом. Как выяснилось — не мне. Сквозь меня. Оказывается, в этот момент появилась в нашем купе женщина. Чернявая. Похожая на отбившуюся от табора цыганку. Озирается, как где-нибудь в степи. И одновременно Пепеляеву подмигивает. В свою очередь. Странная. Потому и запомнилась. И в дальнейшем она купе постоянно перепутывала. А сейчас пришла, значит, поозиралась, на лавку Фиготина села. Он матрас уже в трубочку скатал и на третью полку забросил. Сидит, «дюдик» свой переваривает. А приблудная, в черном модном комбинезоне женщина возле него примостилась. Трясется, плечи так и ходят у нее. Знобит ее, пожалуй. Потом прислушалась к нашей дискуссии и, когда Пепеляев курить в тамбур пошел, ойкнула, поднялась и, сказав: «Простите!» — заспешила прочь. Следом за Пепеляевым. Как бы вдруг поняла, что не в свое купе затесалась. За время езды она еще не раз так промахивалась и в нашем купе возникала, напоминая мне Юлию и всю печаль, связанную с ней. Неслышная, обтянутая черной блестящей материей комбинезона, излишне конфузливая, игриво-пугливая, незаметным образом подсядет и вдруг… опомнится: «Ой, простите!» Подхватится, взмахнув рукавами, будто крыльями.
* * *
Перед тем как сбежать от Юлии, которая не только не удерживала меня, но и не подпускала к себе ближе чем на метр, в один из выходных дней предпринял я наиболее отчаянную атаку на ее сердечко. Не то чтобы терпение лопалось — вера в себя прежнего ломалась.
Лето на севере острова короткое. Дней пятьдесят. Яблоки с грушами, не говоря о бананах, созреть не успевают. Чего не скажешь о ягодах. Черника-голубика, ежевика с княженикой возле жимолости, морошка или просто клюква с брусникой, робкая земляника, а сверх всего малина и пропасть разной смородины. Короче — для медведя раздолье, для городского человека — пропахшее багульником счастье. В миниатюре — недолгосрочное, и все же блаженство. Конечно, при условии, что упомянутый человек обретается в лесу или на марях-болотинах не один, а хотя бы с… собакой.
Юлия соглашалась на прогулку медленно, трудно. После минутного раздумья вздохнула и еще пять минут курила. Молча. Затем поставила условие: взять с собой Евгению Клифт. Я и на это пошел, втайне надеясь, что косолапая, рассеянная поэтесса завязнет где-нибудь в густом пихтаче, заблудится в стланике, отобьется на какое-то время и я успею переговорить с Юлией по душам, а главное — наедине (окружающий бессловесный мир — не в счет: слава богу, ни деревья, ни птицы, ни ручьи прохладные стихов не пишут, а главное — не читают их вслух).
Нашей прогулке немало способствовала ее доступность: случись задумать подобную вылазку где-нибудь в Ленинграде или Москве, с непременной электричкой и прочими видами транспортного мытарства, — ничего бы не вышло. Отказалась бы Юлия наотрез. А здесь, на острове, в городке нашем юном, пешком до Тихого океана — километр; до кедровых орешков рукой подать: под окном растут; до лиственничного бора пятьсот метров, а до березки горбатенькой, причудливой, «каменной» — и того меньше. Ежели над этим недоразвитым лесом на цыпочках приподняться, далее, за березничком, можно увидеть душистую, мшистую марь.
Читать дальше