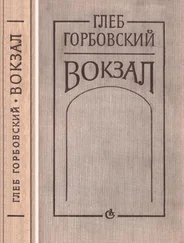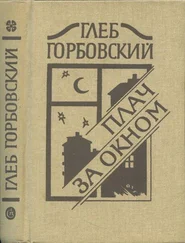Ответственный секретарь Марафетов всю эту возню со мной взял на себя. В шефском порядке.
— Что, Путятин… вздрагиваешь? Смешно тебе?
— Знобит, — отвечаю.
— Слово «Любовь» не нравится?
— Р-раздражает…
— Что ж, тогда заявление пиши. По собственному желанию. У нас такой порядок: кто не с любовью, тот против нас.
Месяц шутили, два шутили. А поближе к весне положил-таки я на стол Марафетову заявление: «По причине психического расстройства (безответная любовь) с обязанностями литсотрудника справляться не могу. Прошу освободить меня от занимаемой должности…» Освободили.
Неделю в общежитии на койке провел. Успокаивался. Голоданием увлекся. А когда не только денежки, но и терпение кончилось, сложил в портфель необходимое барахло и рабочим поездом махнул в порт. К бичам. Строить пирс, а затем и на разгрузке лихтеров навигацию стоять. Но об этом — чуть позже… А в тот буранный вечерок, точнее, в ночь пушистую, непроглядную вывалился я из Юлиной квартиры и, отойдя на приличное расстояние от ее дома, стал смотреть на мерцавшее в снежной заварушке окно. И вертелись в голове слова, складывались вопросы… Зачем я здесь? И вообще — зачем живу? Для какой радости-благодати? Потому что для зла, во имя, так сказать, муки — жить не принято. Не стоит того… Единственно прекрасная из всех земных сказок Любовь отворачивается от тебя. А если нет связи, обратного сигнала не слышно, тогда зачем надрываться?
Значит, ложь, как и правда, — способны светиться? Источает же луна свои мертвенные фотоны… Или гнилушка болотная, лесная… Или рыбина глубинная, холодная. Мне почему-то казалось, что свет в Юлином окошке — не просто свет, но зов, вопль, призыв… Неужто померещилось? Неужто сердце ее в бреду, в забытьи, не наяву кричало?
И вдруг ощущаю: все равно сладко! Все равно — благодарен… (Так на кострах улыбались?) Радость возвышающая — все равно: стоять в буране под ее окном, дышать снегом, будто мыслями ее заледенелыми. Стоять и умирать постепенно, вернее — с утроенной скоростью! Жертвенно… Во имя любви всеобщей! Людской… так же, как вот моя, — прозябающей в мире на лютых ветрах…
Нет, не сделается ей лучше со мной, с нелюбимым. Не-е-ет, еще мрачней, непроглядней станет Юлии возле меня. Еще глубже, вязче уйдет она в задумчивость. А задумчивая женщина — это как незажженная свеча: явление хотя и привычное, однако ненормальное. Ибо не свет излучает, а всего лишь напоминание о нем.
* * *
Вагон попался крепкий, еще не расшатанный чистый, с хорошим освещением, какой-то весь жизнерадостный изнутри: светлый пластик источает бодрость, будит в душе пассажира благодарные чувства в адрес ученых-химиков и вообще — вселяет надежду. Повергает в умиление, восхищение и в сыновнюю гордость за весь наш многострадальный, гениальный, экстравагантный и все же такой родной, неповторимый двадцатый век.
Правда, кондиционеры на потолке помалкивают, и в прокалившемся на дневном солнцепеке вагоне душновато. Пришлось опустить рамы. Ласковый предночной ветерок поднапер на спрессованный, нутряной воздух, постепенно вытесняя из вагонной атмосферы все непотребное.
Вскоре демонстративно закашлял угрюмый тип в черном, «траурном» костюме-тройке, черная борода на белой манишке, под бородой — красный галстук мерцает. И старомодная пижонская трость в руке вибрирует… Окна пришлось позакрывать. На сотню разгоряченных, пышущих здоровьем людей всегда найдется один простуженный, а в поддержку простуженному квелый или вздорный возникает. И глядишь — дебаты… И побеждают в дебатах, как правило, простуженный с квелым. Потому что вокруг — гуманисты, окутанные моральными кодексами, с чувствами добрыми, неизменно берущими верх. По крайней мере, в поездах дальнего следования. Чем дальше дорога — тем гуще замес уживчивости, снисходительности. А наши, российские, в частности сибирские, дороги — самые длинные. Оно и справедливо, что гуманисты кругом. И очень разумно. Покой в результате. Тишина и миролюбие. А случись обратное, оседлай наши помыслы и поступки ярость тысячекилометровая, злоба немеркнущая — что от нас останется в вагоне? Одни пожитки ненужные, скарб скорбный. Выражаясь эрудированно — багаж. Всего лишь.
Однако самое неожиданное, а в результате и самое печальное для меня заключалось не в том, что один из моих соседей оказался якобы простуженным человеком, а в том, что этот временно кашляющий мужчина представлял собой ярко выраженный образчик… дорожного проповедника.
Читать дальше