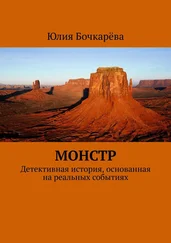Ночью мне беспричинно приснилась мама. Как будто она потеряла разум, держит меня за лицо и спрашивает: Кто ты, кто? А кто я? Андреутин Стрибер, точно так, как ты моя мать, а не наемная страдалица, живущая на детские пособия. Кто я? Фуйка Пера, который однажды отправился на поиски своего биологического отца…

Фуйка, говорите? Вон он, нравится ему это дерево, — женщина выпрямляется и указывает мне на вербу на холме. Сначала я его долго не вижу, иду наугад, подумал даже, что женщина эта — лгунья или сумасшедшая, оглядываюсь — ее уже нет, только исчезающий след велосипеда в пыли. Солнце сильно пекло, обнаженное и невыносимое, когда я увидел человека, со спины, как будто обезглавленного, на корточках. Я подумал, что это призрак, что меня зрение подводит… Но нет, тут, и, правда, кто-то был, чертил ли он круги на земле или искал вчерашний день, засыпанный пеплом в сожженной траве, или перебирал четки в бездушной молитве?.. Мой ли это был отец?
Голос мне отказал, колени подогнулись, чуть не убежал, перепугавшись от счастья. Чем это он занят? Фуйка… Какое идиотское имя! Похоже, он нагнулся, чтобы пальцем перевернуть какого-то блестящего жесткокрылого жука, упавшего на покатую спину, который без него сдохнет, как и я, представь себе. Почему ты меня оставил, тьфу, это затасканный вопрос, наверняка я начну с чего-нибудь другого, наверное, с какой-нибудь мечты, иногда достаточно только мгновения, чтобы все стало ясно, как в не поддающемся пересказу романе… Что же это делает мой отец? Я уже подошел совсем близко, а он не оглядывался, погруженный в себя, спокойный, как Луна…
И едва я его не окликнул, голосом, который пробуждал меня из детских кошмаров, как человек неожиданно встал и какой-то газетой (в такую и Эдуард Сэмсон сморкался в лесу) — вытер свою покрасневшую задницу…
Он не заметил меня, я развернулся и побежал, спотыкаясь о кротовые кучки, мокрые вулканы.
Этот эпизод мне знаком, — произнес Ладислав Деспот после минутного молчания, — знаком.
Если он знаком тебе, это еще не означает, что он неправдоподобен, хотел я сказать. Ты хочешь правды или эксгибиции?
Но вся эта история похожа на ножной протез. Все твои профессии. Это движение и неподвижность. Это слишком многозначительно, понимаешь? Когда я сквозь сон слышу призывы о помощи, твои, Иоакима или кого-то из соседних камер, я вспоминаю свою мать. Она вечно болела и причитала в своей комнате, звала. Сон у меня легкий, я просыпался после первого стона, но зажмуривался, не шевелясь, сам перед собой притворялся спящим, ожидая, когда кто-то из домашних проснется, встанет на холодный пол и спросит, чего ей надо. Это никак не связано с философией, с ненавистью, с бездушием, или связано, как и у каждого осознающего, что любовь беспощадна и неестественна.
Смотри, вот так выглядит мертвец, подумал я, как и в первый раз, когда открыл глаза. И увидел, что сделал мой отец.

Так оно все и было. Поскольку по ночам была воздушная тревога, практическая подготовка к адским соревнованиям, во время которых вечно обмирают от приседаний и джоггинга, акробатического рок-н-ролла и бесконечных продолжений, нам позволяли дольше спать под нитевидным солнцем, под сладким светом, пробивавшимся сквозь зарешеченные окна. Мне снилось, что я сижу в своем словаре, и подо мной опять увядают некрологи, и я избавляюсь от мыслей о смерти, скалящейся в углу.
Проблема состояла в том, что во сне со мной ничего не происходило. Мои сны — плохие фотокопии действительности, и с этим я смирился, как и с временными перебоями в сердце. Я больше не просыпаюсь с криком, в холодном поту, потому что мне снилось, как я ем обычную еду, разглядываю людей. В моих снах не было эротической влаги, кроме той, что уже была. Не было лиц, которых я не видел прежде, не было сцен, которые бы не повторялись. Если бы я некоторым образом не стыдился всего этого, как некоего физического недостатка, если вы правильно меня понимаете, я бы обязательно написал письмо тому психиатру из газеты. Если бы он даже не сумел растолковать мой сон со значением, удаленным хирургическим путем, то, возможно, сумел бы объяснить этот феномен. Но только стало бы мне от этого легче? Впрочем, я настолько уже привык, что, если бы вдруг мне приснилось что-то невиданное, то я бы, пожалуй, расхворался, в конце концов, это не так уж плохо — не переживать авантюр. Знать свои пределы. Это почти счастье. Вот ты, мальчик, спешишь вырасти, чтобы потом до конца дней тосковать по детству, по темной утробе, наполненной сладкой золотой кровью.
Читать дальше