Сейчас, одновременно с издевательским скабрезным жестом и возгласом «самбо», нацеленным в спину императора в изгнании, он уставился на английского полицейского с этакой улыбкой взаимопонимания и с ожиданием дальнейшего поощрения, но тот метнул на него взгляд, полный отвращения, смешанного с возмущением, и развернулся, чтобы проследовать вместе с сержантом и всем взводом к полицейскому участку. Какой-то момент здоровенный детина еще оставался на своем месте с застывшей на физиономии улыбкой, бросая взгляды на окна консульства, будто взвешивая, не следует ли запустить камнем в одно из стекол, и в смущении ограничился тем, что дважды пролаял «самбо» мальчонке, которого мать тащила за собой в абиссинскую церковь, куда направлялась вслед за монахами.
В состоянии душевной подавленности и нахлынувшей бессильной злобы у меня промелькнуло ужасное в своей определенности ощущение, что и сам я являюсь объектом наблюдения. «Есть око видящее и ухо слышащее, и все дела твои вписываются в книгу» — когда по прошествии двух-трех лет я прочел эти слова, во мне снова всколыхнулось то же самое ощущение вместе с воспоминанием обо всем произошедшем — как я обернулся и увидел Гавриэля Луриа, сидевшего в плетеном кресле и наблюдавшего за мною, наблюдающим за разыгрывающимся передо мною спектаклем. Он сидел у стола, положив ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла, в одной руке держа сигарету, а другой опираясь на трость с серебряным набалдашником. Он наблюдал за всей этой сценой подобно зрителю театрального представления, в котором я, как и все прочие актеры, неосознанно принимал участие. Он излучал благое, вселявшее уверенность спокойствие, именно оно вместе со светившейся в его глазах располагающей улыбкой и избавило меня от ужаса перед всевидящим оком, чей взгляд ни с чем не сравним. Он был очень далек и одновременно с тем очень близок. Настолько далек, что превратил меня (и вместе со мною всех прочих участников спектакля, не чувствовавших этого всевидящего взгляда) в крошечного карлика, этакого на диво маленького мальчика-с-пальчик, и настолько близок, что каждый мимолетный оттенок чувства и мысли и легкое движение мизинца приобрели совершенно исключительное значение в канве древнего, таинственного и скрытого смысла.
Уже долгие годы лишен я радости пробуждений того лета, когда мы поселились в доме господина Гавриэля Луриа и когда я увидел его отца, старого турецкого бека, и его мать с грезящими глазами. Та радость пробуждений существует ныне лишь в щемящих воспоминаниях и в наивной надежде на ее возвращение в один прекрасный день.
В один из дней того лета, в тот великий и странный день моей жизни, господин Гавриэль Луриа вернулся из Парижа. Поскольку мать его сдала нам квартиру в их доме на улице Пророков за несколько недель до его прибытия, я уже слыхал о нем и был знаком с его домом и с его матерью прежде, чем сам он предстал передо мной со своими квадратными усами, тростью и соломенной шляпой на голове. Что до старика, то не могу утверждать, что я был с ним знаком, ибо видел его всего-навсего два или три раза.
Этот сефардский еврей, Иегуда Проспер Луриа, отец Гавриэля, был по всем статьям человеком необычайным. Прежде всего, кроме наложниц на случай, у него было две жены, как у наших праотцев в те старые добрые времена, когда дети Израиля еще вели себя в соответствии с природными склонностями. Одна его жена, Хана, происходила из старинного и чрезвычайно родовитого сефардского семейства Пардо, и все знавшие ее свидетельствовали, что была она женщиной исключительной душевной тонкости и добросердечия. С нею жил он в своем доме в Яффе, где выросли три сына и две дочери, которых она родила ему. Другая жена, мать Гавриэля, происходила из захудалой и бедной ашкеназской семьи из Старого города. Старик поселил ее в своем иерусалимском доме на улице Пророков и к ней приезжал время от времени пожить недельку. В последние годы он появлялся не чаще раза в три-четыре месяца. Кроме двух жен старик располагал еще одним излишеством, официальным достоянием времен оттоманской империи, а именно титулом «бек», присвоенным властями и приравнивавшим его к турецким вельможам и прочим знатным людям во владениях султана, да возвеличится его имя. Мусульмане, а также и местные евреи продолжали величать старика турецким титулом Иегуда-бек и после того, как сам султан вместе со всей своей огромной державой исчез с лица земли. Не знаю, был ли пожалован ему этот титул как следствие занимаемой должности, или же благодаря титулу была ему предоставлена должность, ибо был он испанским подданным в Яффе, увенчанным турецким титулом. Так или иначе, он служил консулом Испании в этом городе вплоть до завоевания страны англичанами, и европейцы называли его «месье ле консюль». Он умер за несколько недель до того как Гавриэль, дитя его старости, вернулся домой.
Читать дальше
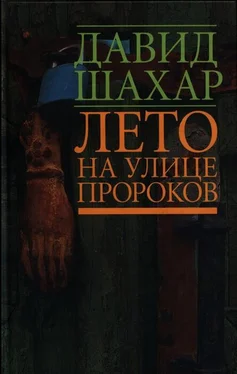

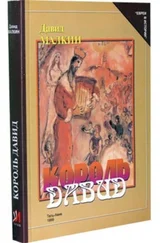





![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)


