Одновременно с обнаженной, абсолютно телесной жизнедеятельностью и параллельно ей в принимающей пищу госпоже Луриа происходили абсолютно душевные и духовные процессы, отражавшиеся в материальном мире или, выходя из берегов, выплескивавшиеся в область физических действий. Когда она преодолевала препоны на нюхательном, отрыжечном и крошечноочистительном этапах и зубы ее принимались ритмично и исправно жевать, словно двигатели мерно плывущего корабля, госпожа Луриа отдавалась стихии своих дум и помыслов, подобно капитану, позволяющему себе предаться безмятежной дреме, выведя судно на морские просторы, за опасные пределы явных и скрытых от глаз прибрежных мелей.
А иногда ее охватывала радость, вызванная частыми и резкими переменами, происходившими в тончайших оттенках мерцания ее далеко унесшихся мыслей, и, возможно, эта радость была не более редкой, чем скорбь, но как скорбь, так и радость, сквозящая в выражении ее лица и темных глаз, сжимала мое сердце, словно порыв ветра из иных широт, хотя вид ее скорбной трапезы угнетал меня сильнее. Спустя многие годы после того, как тело ее вернулось в землю, из которой было взято [71] Аллюзия на ст. 19 гл. 3 Книги Бытие: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят…»
, когда я однажды проходил мимо книжного магазина, мне бросилось в глаза заглавие одной из французских книг на витрине. Это был французский перевод сочинения Мигеля де Унамуно «Le sentiment tragique de la vie», то есть «Трагическое ощущение жизни», и при виде этого заглавия передо мной возник образ хозяйки нашего дома такой, какой я видел ее в окне во время еды. Ту книгу я не прочел и по сей день и не знаю, о чем она, но и сегодня я иногда ловлю себя на том, что повторяю про себя фразу: «Трагическое ощущение жизни», вспоминая скорбь в лице госпожи Луриа за трапезой, ту самую древнюю, примитивную, первичную скорбь, которая словно специально создана была для выражения трагической сущности земной жизни, где существование одного живого организма всегда обусловлено смертью и поеданием другого, живого и сущего, той древней скорби, которая, при всей своей первичности, вытекает не из самого земного бытия, абсолютно безразличного, но из иного, далекого и потустороннего мира. И как скорбь, так и радость, охватывавшая ее в круговороте застольных мыслей, всецело принадлежа к силам природы, проистекала все же из иного, далекого мира, в котором пребывала душа ее, в то время как рот, пережевывающий безвкусное куриное крылышко, сваренное без соли, обеспечивал существование ее тела в мире сем. И так, в процессе еды, она вдруг разражалась громким смехом. Иногда этот смех доносился будто из воспоминаний о забавных делах давно минувших дней, которые она вновь переживала со всей веселостью, а иногда казалось, что она приходит в восторг от шутки, которую шепчет ей на ухо некто, видимый ей одной. Но более всего несли с собой дуновение иного, потустороннего мира эти порывы смеха, рвавшиеся из нее, словно она натыкалась на невероятно смешные описания при чтении развернутой перед глазами где-то там, на краю небес, тайной, загадочной книги, доступной лишь ее взору.
В больших и малых перерывах между едой (ибо, как правило, ей приходилось прерываться, не добравшись до конца трапезы, накрывать тарелку с едой другой перевернутою тарелкой и вытягиваться на диване, чтобы перевести дух, прийти в себя после «волны жара», как она выражалась, накатывавшей на нее несколько раз на дню на протяжении всех долгих лет после того, как обыкновенное у женщин у нее прекратилось [72] См. гл. 18 Книги Бытие: «Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных; и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение [сына]?» (ст. 11–12).
, или просто отдохнуть от утомительного питания), в перерывах этих, передохнув по мере необходимости, порой мурлыкала она одну из песенок своего детства, проведенного в еврейско-английской школе для девочек имени Эвелины де Ротшильд, а порой со все нарастающим ликованием пела и в полный голос, сохранявший удивительную прозрачность и звонкость.
Не раз я видел, как в те дни, когда на нее нападала такая безудержная радость жизни, она ела жареное мясо в сопровождении квашеных, соленых и перченых врагов своего здоровья и при этом отнюдь не казалась обескураженной сомнениями по поводу противоречия между теорией и практикой. Она, похоже, переставала заботиться о своей жизни именно в тот момент, когда обнаруживала в ней радость и вкус, в другое же время старательно оберегала свою жизнь, тщательно соблюдая со всей строгостью закона самые незначительные мелочи в тончайшей системе питания и охраняя себя от всего, что представляло опасность для земной жизни. И чем более эта жизнь была ей в тягость, чем постылее становилась для нее, тем больше она старалась и тем тщательнее все соблюдала в тоске и печали.
Читать дальше
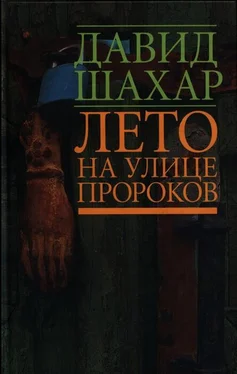

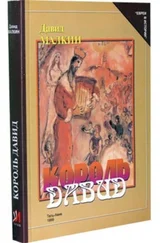





![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)


