— Генриетта не будет женой еврея!
Так она постановила, и во вспыхнувших вслед за тем спорах молодой священник всякий раз, когда старушенция вонзала в него свои ненавидящие взгляды, чувствовал себя так, словно он сам, своими собственными руками вбивал гвозди в тело распинаемого Иисуса. Старик был погружен в непроходимое тяжелое молчание, старуха угрожала, что покончит с собой, ибо только через ее труп может осуществиться этот позорный брак, а глазки Генриетты непрерывно источали слезы. Генриетта была подобна нежному тепличному цветку, всю жизнь росла она и цвела под защитой тепла и семейной любви и всеми своими поступками стремилась доставить утешение и радость родителям. Невыносимо тяжелой была для нее мысль о том, что, последовав своей сердечной склонности, не только не принесет своей семье никакой отрады, но разрушит ее и, быть может, заставит мать собственной рукою истребить свою материнскую душу. Доктор Шошан, любивший ее по-настоящему и воистину желавший ей только добра, разрешил ее жизненную дилемму истинно христианским путем милосердия, жалости и любви — он попросту исчез из того городка и из жизни Генриетты, а последнее письмо к ней, в котором все объяснял, переслал ей при помощи ее лучшей подруги Паулы, которая спустя год вышла за него замуж, той самой жены его Паулы, которая только что отменила ежедневный урок Торы из-за желания своей богатой подруги пригласить ее на вечернюю чашечку чаю, и все из-за платонической любви к богатым людям.
Этой платонической любви, как он мне уже говорил, доктор Шошан давно перестал удивляться. Воистину, должным образом рассмотрев любовь, мы обнаружим, что она всегда является платонической в силу собственного естества и что к ней применимы слова, сказанные нашими блаженной памяти мудрецами о всякой заповеди Божьей: «Награда за любовь — любовь, и кара за любовь — любовь, и в этом мире всегда кара за любовь больше, нежели награда, и насколько велика кара любящего в этом мире, настолько же возрастет награда его в мире грядущем» [60] В трактате «Авот де рабби Натан», одном из т. н. «малых трактатов», сказано: «Сказал Бен Азай: Награда за исполнение заповеди — исполнение заповеди, и награда за грех — грех» (вариант 2, гл. 33-V).
. Другое удивляет его в этой женщине, то есть в его жене. К его величайшему изумлению, жена его день ото дня делается все более и более похожей на мать Генриетты. Иногда, пробуждаясь посреди ночи от своего неглубокого сна и оглядываясь по сторонам, он обнаруживает лицо Паулы при свете горящего всю ночь ночника, и вот — в памяти его вызывает оно дни, проведенные в Армсфоорте, и дочку старого льва. В ночь после того как он увидел мое имя на собственном почтовом ящике, поскольку перепутал свой адрес — путаница, из которой и возникло наше знакомство, — лишь только забрался он в ту ночь в свою постель и приготовился к спокойному, более или менее, сну, поскольку ощущал некоторую приятную усталость, как взгляд его упал на спящую жену, и сердце его сильно забилось в странном трепете, можно даже сказать — в жутком страхе, нападающем на нас при виде потустороннего явления: то была не Паула… рядом с ним лежала мать Генриетты. Не говорите, что это не более чем ночное видение при свете ночника, он ведь может меня заверить, что и посреди бела дня лицо Паулы норовит делаться все более похожим на лицо жены старого льва, только при солнечном свете это сходство не так его пугает.
Да. Что интересно, так это что он не помнит имени той старухи. Имя ее мужа он помнит превосходно: Теодор, как звался и пророк ционизмуса [61] Теодор (Биньямин Зеев) Герцль (1860–1904). Автор пользуется латинско-немецкой формой слова «сионизм», неупотребимой в иврите.
. И конечно же, имя дочери, Генриетты. Но вот имя этой старухи забылось, совершенно стерлось из памяти. Имя улетучилось, но не память о ней, и не раз он обнаруживал, что память о ней гораздо яснее, живее и четче, чем память о Генриетте. Он помнит каждую деталь не только ее лица, но и походки, и голоса. В пользу старой злодейки следует сказать, что у нее был приятный на слух голос, мягкий и вместе с тем ясный и полный нюансов. И тут ее сходство с Паулой заканчивается. О жене его можно сказать, что голос, голос Паулы, а лицо, лицо Генриеттиной мамаши [62] Аллюзия на ст. 22 гл. 27 Книги Бытия: «Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его, и сказал: голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы».
. Этим красивым, пленительным голосом она угрожала дочери, что покончит с собой. Да. А что до угроз старой злодейки, будто она покончит с собой, на него они не произвели никакого впечатления, но поскольку он на собственном опыте знал, как они угнетают душу, на которую нацелены, и от гнета этого невозможно избавиться увещеваниями и логическими доводами, он даже и не пытался успокоить Генриетту и доказать ей, что маменька никогда не лишит себя жизни и что угрозы эти суть только средство давления, террор самого низкого разряда. Ощущение душевного гнета и сердечной подавленности знакомы ему еще с тех дней, когда его собственная мать пользовалась таким террором против него, узнав, что он собирается изменить свое вероисповедание, поскольку глазам его открылся истинный Мессия, Царь Иудейский, ибо суждено ему было, видимо, истинной своею верою и любовью превращать матерей в террористок из того разряда, что шантажируют угрозой самоубийства. Серьезнее матери была его сестра, которая не допекала его разговорами, не угнетала предостережениями и не травила душу угрозами, а попросту запустила ему в голову раскаленным утюгом. Сестра его — националистка, ревизионистка из учеников Владимира Жаботинского. Она стояла и гладила свою коричневую форму, когда он пришел к ней домой, чтобы побеседовать на темы веры и религии, наводящие на нее такую скуку, потому что она атеистка, верящая только в национализм. Когда он развернул перед нею помыслы сердца своего и озарения веры, веры новой, наполняющей новое сердце, данное ему, лицо ее побледнело, и она застыла на месте с утюгом в руке, которым продолжала давить на коричневую рубашку, покуда не повалил от нее дым.
Читать дальше
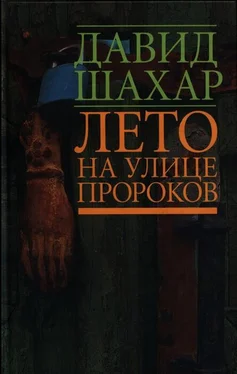

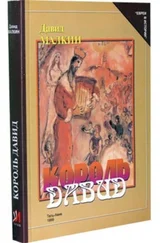





![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)


