— Никогда себе не прощу, что не смог добиться от нее адреса Гавриэля, — сказал аптекарь, когда мы возвращались с похорон хозяйки нашего дома, и снял с носа пенсне, чтобы протереть его от испарений собственного гнева.
Как и в прошлом, во время учебы во Франции, так и сейчас, после того, как Гавриэль вернулся и исчез, мать никому не открывала его местонахождение, и потому не нашлось никого, кто бы знал, откуда вызвать его, когда настало время похорон. Без линз глаза аптекаря выглядели глубоко запавшими в глазницах и оттуда беспомощно взирающими на чуждый им мир.
— Теперь уж у меня не будет иного выбора, — сказал он, возвращая пенсне на его постоянное место, четко обозначенное красным, огибающим переносицу желобком, с тем же сосредоточенно-мыслящим, боевито-решительным и сморщенно-презрительным выражением лица, с которым переносил лекарства из секции в секцию, — иного выбора, как попытаться изучать Пятикнижие в университете. Кто знает, может, они там понимают законы жертвоприношений получше, чем наш ребе, который обучал нас в детстве Пятикнижию с комментариями Раши… Ведь я уже не мальчонка, и в моем возрасте настало время относиться к вещам серьезно и основательно.
Как раз в этом последнем пункте я с ним согласился. Однако должного душевного покоя в своих занятиях Пятикнижием на Подзорной горе [32] Еврейский университет в Иерусалиме был открыт на горе Скопус (Подзорной) в 1925 г., где и сейчас размещается значительная часть его факультетов.
не обрел сей дипломированный аптекарь, который с тех пор, как снял свой длинный белый халат и для всего мира стало очевидным, что повыше выпуклых голубовато-белесых коленок у него все-таки имеются штаны, выглядел более или менее приличным человеком, ибо в те дни многие, и отнюдь не худшие, люди имели обыкновение носить короткие штанишки. Тот бессильный гнев, что охватил его впервые на похоронах домовладелицы и казался связанным, выражаясь спокойно и рассудительно, с известной переменой ее адреса, по всей видимости, должен был пройти с привыканием аптекаря к данной перемене, гнев этот не только не утих, но все усиливался по мере того, как росло количество прослушанных им на Подзорной горе лекций по Пятикнижию и обсуждений оных с педагогами и сокурсниками. На самом деле он уже не способен был выражать свои соображения вслух, и не только касательно скинии с ее принадлежностями, ковчега Завета и жертвоприношений, но и по всякому иному вопросу, не крича и не размахивая в пространстве руками, словно тонущий в пучине вод, вотще ищущий, за что бы уцепиться. Его голос, некогда бывший чистым, громким и благозвучным (по крайней мере для моего уха, по сей день чуткого к той мягкой мелодике, что характерна для давних уроженцев страны, начавших говорить на иврите еще в турецкие времена), охрип от постоянных криков и, словно струя в частично засоренной трубе, вырывался — иногда высокий и тонкий, иногда шепчущий с клокотанием и кудахтаньем, и одного этого голоса было уже достаточно, чтобы не только отпугнуть педагогов, которых аптекарь оскорблял на людях, но и резать уши всякому, кто не был заведомо глух. Даже я несколько раз ускользал от него на улице, притворяясь настолько озабоченным своими важными, не терпящими ни малейшего отлагательства делами, что не замечал встречных. Больше всего злило его в этом высшем учебном заведении, угрожая окончательно лишить голоса, то сходство, которое он, к несчастью, обнаружил между своим деятельным и сеющим знания в массах профессором и нашей почивающей в раю домовладелицей.
— Ужасающее сходство между ними, — говаривал он, — в один прекрасный день еще сведет меня с ума.
Подобно ей, профессор сей полагал, что все аспекты священства, скинии, ковчега Завета и различных жертвоприношений суть ребячества, которые с расстояния в три тысячи лет заслуживают лишь снисходительной улыбки. Но то, что простительно простой женщине безо всяких претензий, непростительно ему, увенчанному степенями и званиями и взявшемуся сеять знания и толковать Тору от имени беспристрастной науки. Из его слов я также понял, что по поводу беспристрастной науки между ним и профессором вспыхнул яростный спор. По его мнению, профессор пользовался недостаточно научными методами, и это мнение, которого он ничуть не старался скрыть от оппонента, ранило профессора Пятикнижия в самое сердце и привело его к принятию решения избавиться от студента-аптекаря во что бы то ни стало.
Читать дальше
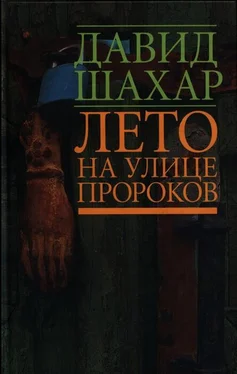

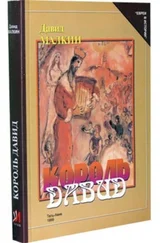





![Тал Бен-Шахар - Управление без власти и контроля [litres]](/books/412485/tal-ben-thumb.webp)


