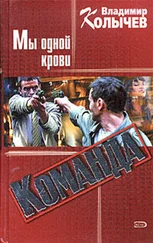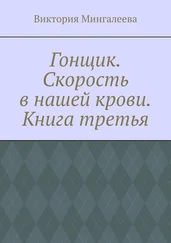Бог шельму метит ? так и пометил он Гершуни, только, лучше сказать, пометил черт, – посему в 1907 году у Григория обнаружили саркому, а три непреклонные бабы с нитками в руках еще дали пережить ему и Шлиссельбург, и каторгу на Акатуе да побег с каторги в Японию, и только потом равнодушно исполнили свое предназначение… что скажет на это марксистско-ленинская философия? как станут трактовать такую судьбу обществоведы-краснобаи? – учись, дескать, Гриша, у Петра Лавровича Лаврова и как раз похоронят тебя, красивого и молодого, рядом с ним на Монпарнасском кладбище в замечательном городе Париже… и это все равно еще не точка, потому что точек в нашей жизни нет, даже если ты почил, смерть твоя – только запятая; так вот я и говорю: после покушения на Плеве дедушку арестовали в Харькове, но – ты будешь весело смеяться – не за покушение, отнюдь, а как бы ты думал, за какие геройства во славу нашего отечества? – за совращение, растление и убийства малолетних! да, паспорт Авеля Акимова сыграл в его судьбе трагическую роль, ибо кто же знал при покупке сего злополучного мандата, что петербургский мещанин Акимов есть уголовный каторжанин, детоубийца и маньяк, загубивший на своем веку множество невинных душ; и вот Леона Максимыча взяли как убивателя детей, не подозревая даже о принадлежности его к Боевой организации, и судили тоже как беглого преступника, и пока судили, рядили, разбирались, да так, ничтоже сумняшеся, и не разобрались, а взяли и приговорили его снова к повешенью, – зачем, дескать, портил малолетних да еще и закапывал живьем? делопроизводство в Империи запутанное, расстояния большие, острогов – очень много и иди доказывай, что ты в жизни не трогал ни отроков, ни отроковиц, разве что для родственного целования, хотя если взглянуть не с уголовной стороны, а с политической, так и получится – тех же щей, только пожиже влей, там виселица и здесь виселица, выигрыша никакого, только что политическую петлю усерднее намылят, знамо дело, политик у нас завсегда для матери-истории ценен, – и тут все поняли, что мещанину Акимову конец, не выкрутится и помилованья не получит, сколь ни апеллируй, тогда Азеф – а к тому времени давно уже он перенял бразды правления, так как Гершуни еще в 1903-м заарестовали, – Азеф организовал ему побег, имея на дедушку далекие виды, и вот второй раз из-под петли и снова ценой жизни двух жандармов Леон Максимович бежал, – происходило это все близ Харькова, и беглеца, посадив в закрытую карету, повезли в город на конспиративную квартиру, где жили три сестры, только не такие смирные, как в пьесе, а довольно боевые и даже игравшие заметные роли в эсеровском движении, во всяком случае – две старшие, а младшая за малолетством покамест не посвященная в дела, – так вот, жили, говорю я, три сестры – Анна Осиповна, Евлампия Осиповна и Евгения Осиповна, которая тебе, голубчик, знакома как родная бабушка, и с которой любишь ты поспорить, не понимая, очевидно, главного: время делает нас, – никто не против, но прежде времени делает нас кровь… и так, стоя перед книжной полкой и в раздумьи поглаживая пальцами урну с бабушкиным прахом, Артем все вглядывался в полутемноту родной квартиры, давно уже потерявшей связь с хозяевами и укрытой полуторагодичной пылью, словно пеплом, – квартиры стершейся, поблекшей и прогоркшей, – вглядывался, напрягая измученные монитором компьютера глаза, и… видел: к подъезду харьковского дома, купленного Осипом Розенбаумом на свои банкирские сверхприбыли, подъезжает в вечерних сумерках закрытая карета, и из нее выводят высокого, худого, слегка сутулого человека в кандалах, каторжной робе и измятой шапке, такого как бы сверх даже человека, имеющего нечто зверское в лице и особенно в глазах, – Евгения Осиповна, Женечка, вопреки запретам старших глядит исподтишка в окно, прячась за жесткой крахмальной занавеской, видит странную фигуру гостя, пытается заглянуть ему в лицо, и вдруг он сам приподымает голову: в глазах его примечает она выражение какой-то кровожадности, и оно, это выражение, вкупе с большим горбатым носом, мохнатыми бровями и дочиста бритой головой так пугает ее, что она отскакивает от окна и в ужасе закрывает ладонями глаза… встречают его мужья сестер – Анны Осиповны и Евлампии Осиповны, соответственно – Иван Иваныч и Иван Степаныч, настоящие адепты белоснежных подкладок, только не по убеждениям, а из соображений конспирации; дочери Осипа Розенбаума не могли быть замужем за босяками, потому и носили Иван Иваныч и Иван Степаныч, – проживая, к слову, в богатом доме, хозяин которого симпатизировал
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу