— Смотри, смотри, Митя! — воскликнула Тата.
Снизу, из середины партера, махал программкой Гоша. Она с помощью пальчиков попыталась назначить ему в антракте встречу. Между тем свет гас. Шум утихал. Изуродованная складками, белая птица на занавесе осветилась. Раздался медный удар, и занавес, заметая пыль, стал раздвигаться. Открылась уютная гостиная: колонны, диванчик, закиданный думками ручной работы, камин. Бронзовые часы заиграли менуэт.
— Ни черта не видать, — проворчал Митя и замер. Его руку накрыла лишенная веса Татина рука.
Он покосился: может, это так просто, по ошибке? Серые глаза Таты внимательно глядели на сцену, а губы явственно шепнули:
— Не сердись. Хорошо?
Словно теплая волна окатила Митю. Он сжал ее пальцы так, что узенькая кисть свернулась трубочкой, и твердо решил, как только кончится представление, отвесить лысому что положено.
— Больно, — нежно шепнула Тата.
Он закрыл глаза, опустил руку на ее бедро. За тонкой юбкой угадывалась резинка. Он провел рукой повыше, пониже. Нога была литая, как у памятника. Тата следила за пьесой внимательно, а милые беспомощные пальчики поглаживали и поглаживали Митину руку.
На момент она замерла, отняла пальцы. Митя насторожился: не слишком ли он развольничался?
— Смотри! — шепнула она. — Алла Константиновна! Ну да, она? Представляешь?
Что было в этом удивительного, Митя не понимал и не хотел понимать. Его кольнуло, что в такую минуту Тату может занимать какая-то Алла Константиновна. Он попытался сосредоточиться: на сцене красивый белогвардеец орал, что в Москве едят кошек, пил настоящий горячий кофе (из чашек шел пар) и ругал большевиков.
Половинки занавеса важно пошли друг на друга. В зале зажегся свет. Митя отдернул руку и стал хлопать. Похлопав столько же, сколько все, они вышли в коридор, закруглявшийся влево, и стали гулять в длинной очереди. Тата молчала, но молчала как-то особенно, словно ждала чего-то. А Мите было совестно. И чем дольше тянулось молчание, тем труднее становилось его нарушить.
— Огонь в камине фальшивый, — сказал наконец Митя. — На понт берут, тряпки раздувают.
— Может быть, — ответила Тата. — Здесь страшно строгие правила пожарной безопасности.
И снова потянулось нелепое молчание… В толпе мелькнула долговязая фигура Гоши. Тата подозвала его и жадно затараторила: в программе указана Соколова, а играет Алла Константиновна. Замена, видимо, произошла в последнюю минуту, иначе в программках было бы сделано исправление. Наверное, с Соколовой что-нибудь случилось.
— С Соколовой ничего не случилось, — Гоша загадочно улыбнулся. — Она в добром здравии. А вот Алла Константиновна осмелилась не вовремя грипповать… Ее вынули из постели и заставили целоваться с Прудкиным. Теперь загриппует Прудкин…
— И откуда тебе все известно?
— Я здесь свой. Разнюхали о моей повести. Завлит предложил сделать пьесу о Метрострое. Соблазнили авансом. Чем черт не шутит, вдруг в драме-то я и найду себя!
Гоша стал растолковывать Тате, как надо писать драму, а Митя стоял между ними третьим лишним.
— Моя мысль — соединить греческую трагедию с модерном — вызвала форменный фурор, — болтал Гоша. — Зацеловали. Тут у них архиерейские обычаи. Все целуются. По любому поводу. Я еще ничего не написал, а уже целуют. Контрамарки, пропуска — будьте любезны. Мест нет — в особенную ложу пожалуйте…
— А почему сегодня не в особенной? — не удержался Митя.
— По той же причине, по какой сегодня играет Тарасова, а не Соколова, — ответил Гоша и круто свернул на другую тему. — Вы видели горельеф Голубкиной? У главного входа, под козырьком? Полюбуйтесь обязательно. Называется «Волна». Шедевр. Сочная, рыхлая лепка…
— Давай смоемся, — тихо предложил Митя.
Она утвердительно мигнула, сделала вид, что забеспокоилась, как бы и верхние места не заняли. Гоша загадочно хмыкнул, и Тата с Митей отправились наверх. Звонков долго не давали, зал жужжал. В пустом ряду возвышался военный. Густые брови его так и стояли домиком. Митя томился, ждал темноты. В полупустом партере, в четвертом ряду, как приклеенные, сидели лысый и его приятель. За ними разноцветной шелковой лентой протянулась туркменская делегация.
Наконец свет потух. За сценой ударили в медную кастрюлю. Митя по-хозяйски положил руку на Татино бедро, она приклонилась к нему, и он возле самого уха почуял чистый ветерок ее дыхания. Зачем артисты говорили по-немецки, а потом по-украински, зачем мерили сапоги и дрались Митя понять не пытался. Сумасшедшее предчувствие счастья заполняло его до краев. Татина грудь напрягалась и опадала, и, когда на сцене стали ломать парты, он сказал:
Читать дальше
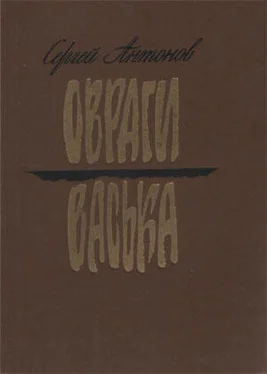




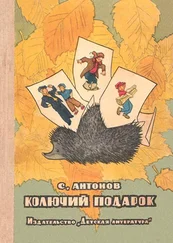

![Сергей Антонов - МЕТРО 2033 - В ИНТЕРЕСАХ РЕВОЛЮЦИИ [Темные туннели 2]](/books/273942/sergej-antonov-metro-2033-v-interesah-revolyucii-thumb.webp)
![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)


