Помню восторг первого послепечорского приезда на юг: я трогал руками горячий кирпич домов, ночью трогал, и эта кирпичная жаркость негой вливалась в меня, и землю трогал, и пыль накаленную мял руками, и в песок обжигающий зарывался, и небо слепило глаза, а закроешь их — круги ласкающие, теплые, радужные. И ночное звездное небо было обворожительно приятным, и тепло парным молоком обдавало, и прохлада шла от тепла ночного, успокаивала, размягчала, н спина выбирала остатки жара из запасливой земли, на которой я лежал. И вспомнилась северная солнечная яростность. Просыпаешься от непривычного светового полыхания, опомниться не можешь; проспал, а на поверку еще и трех часов нет, и так хочется обычной темноты ночной. А ее нет, этой темноты: белые ночи — и все залито низким солнцем — его рукой достать, и спрятаться от этого прекрасного холодного света некуда. И, может быть, именно этот свет рождал предчувствия. Я весь был тогда охвачен радостными ожиданиями: я, двадцатипятилетний учитель, жаждал и любви и признания, и черт знает чего только не жаждал, и был уверен, что все, чего я так искал, все это будет именно здесь, в Печоре, на этой тревожной земле. Я почему-то чувствовал: стоит мне постичь этот новый для меня северный свет, принять его в душу свою, и настанет иная жизнь, будто на новый пик подымусь, новую зрелость обрету — и тогда холод способен. теплом обернуться, подчиниться мне — и это случится, и тогда покой придет ко мне. А тепло здесь в Печоре особенное. Оно в валенки и шубы одето, в пыжиковые шапки наряжено. И рукавицы, и унты с узорами, и шарфы разноцветные, вдвое сложенные, и спины у прохожих утепленные — не ватин старый, как в моем пальтишке, а настоящий стеганый подклад вшит, отчего так ладно спины выглядят. И кожанки в первозданной мягкой глянцевитости. И папахи (раньше мне казались уродливыми, а здесь ничего), кто поперек пирожком, а кто с лихостью край вдавил, — сосчитать, сколько шапок я перевидал разных, да перемножить их на их стоимость — город новый выстроить можно — не то что в Соленге, где я раньше жил и где даже начальство ходило в куцых шапчонках кацавеечной облезлости, отчего физиономия такую угнетенность приобретала, точно полчерепа снесли, да поворозками подбородок перехватили, точно взнуздали лошадь старенькую, которая уже и кнута не страшится, и холод ей нипочем, потому что все равно тепла не жди ни от погоды, ни от кацавейки той.
А некоторые в обычном пальто, и уже если чернотой сукно разморилось, то чернотой особенной, бархатистой, и такие же серые пальто со скользящим блеском — и впервые тогда я услышал словцо «маренго». И рядом дамы с муфтами — и сияние неприступности от этих дам. И девицы — быстрота в шаге, и тоже муфты, руки в локте согнуты, и разрумянившиеся лица, и лукавый блеск глаз (всматриваюсь жадно в эти лица: пьянят меня неожиданные запахи, звуки, движения), а от девиц неприступность идет, гордость какая-то вспыхивает в них, жаром обдает их скользящее пренебрежение ко мне — нет, такого шага и такой уверенности в Соленге не бывало.
Встречались здесь люди и совсем иного склада. Не в маренго и кожанки упакованные, а совсем прибеднённые, однако с особым достоинством в лицах, точно застыло на них сознание еще неведомых мне преимуществ.
Мужчины с лицами усталыми, кто в пенсне, а кто в роговых очках, шаг осмотрительный, но твердый, и женщины с ними с шагом помягче, в унтах притоптанных, и дети будто с плоскостопием, вприпрыжку по снегу, иные тоже в очках. Этих я больше в библиотеках примечал да в книжных магазинах, и дух от них шел совсем другой: покойный, с предосторожностью, точно ждут они лая собачьего, и эта настороженность светилась добрым страхом, потому что страх, если он смешан с добротой и если воли человеку с этим страхом нет, то он добрее становится и не норовит внезапно превратиться в оскал зубов какой-нибудь сторожевой, а этаким добрым пинчером или дворнягой выдает свою беззащитность.
Здесь, у этих последних, и поворозки на шапчонках встречались, у иных на самом подбородке перевязанные, и галоши на валенках, не самодельные из камеры автомобильной, как там, в Соленге, а настоящие, новые, на красной мягкой байке изнутри, которая кантом выбивалась наружу. И портфельчики потертые, и муфты старенькие, и рукавички на тесемке, у кого коромыслом через плечи под верхней одеждой, а у кого и просто к рукавам пришитые. И в шаге нет уверенности, потому что врожденным плоскостопием исстрадались они.
Читать дальше
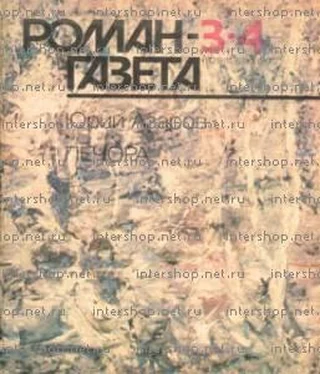
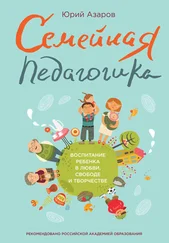



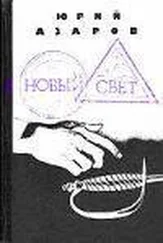
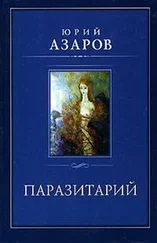
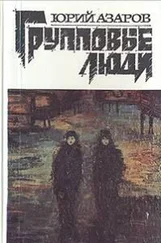

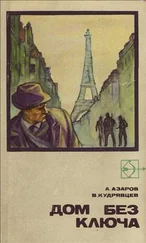
![Евгений Синтезов - Судьба Еросы из «Клана Печора» [SelfPub, 16+]](/books/419217/evgenij-sintezov-sudba-erosy-iz-klana-pechora-s-thumb.webp)
