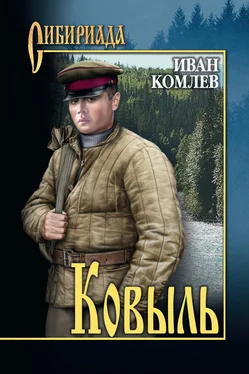Старшим – в школу, а эти – одни дома. Каково им? За малыми глаз нужен.
Потому и пошла. Оттого и боязно было.
Сперва только день проводила у них, а потом пришлось совсем перейти. Что оставалось делать? Работу бросила. Как объяснишь – почему? Соседу помогать детей воспитывать? Другое дело – замуж вышла. За многодетного. Да и ребята, она видела, тревожились, когда Тимофей Несторович не приходил домой и им одним ночевать приходилось. Вот и перебралась…
Ох, жизнь! Не разобрать: где – грех, а где – святое.
Детей жалела, но виду не показывала. К себе не старалась привязать. Мать, какая ни есть, она – мать. Не на век отлучена, пройдёт срок – вернётся к детям. Об этом помнила Полина Филипповна, когда шла в чужой дом. Помнила, когда случилось взаправду стать женой Тимофея Несторовича.
Первое-то время так по нужде пришлось: в тесном доме одна кровать им причиталась с Тимофеем; хоть и широкая, да не чисто поле, не разминёшься. Тимоша…
Как потом полюбила… Вспомнишь – сердце замирает. В молодости первого мужа своего так не ласкала.
Баба Поля стряхивает с себя наваждение, пытается следить за людьми, выходящими из автобуса: рабочий день должен бы уже закончиться – вот-вот пойдут нужные люди.
Но пока нет. Больше идут незнакомые или знакомые, но из тех, кому до её забот дела нет. Поздороваются – и спешат дальше.
Выпал из задней двери автобуса пьяный мужичонка под ноги людям. Понатужился, встал, покачался, как ковыль на ветру, угадал дорогу и – двинулся. «Эк угораздило! Уработался за день, сердешный. Когда успел только?» – баба Поля с презрением и одновременно с состраданием видит, как пьяный, сделав несколько торопливых шажков под улетающее тело, стелется на тротуар, лицом на шершавый асфальт, лежит некоторое время, раскинув руки, как подбитая птица, потом встаёт, роняя красные капли с изодранного лица на руки, одежду… Потом всё повторяется: короткая пробежка, полёт, приземление…
Медленно, трудно даётся дорога к дому, но человечек неукротим в своей цели: достичь.
«Тимофей тоже под конец шибко её любил, клятую, – вздыхая, думает баба Поля, – а вот эдак-то не напивался. Меру соблюдал.
Как он там? С винца-то вроде полегче ему стало. Счас, дождусь вот только, пойду погляжу: не надо ли чего».
Ему не надо. Никогда ничего не просил, не жаловался. Вот только эти дни – выпить капельку. Потому и отказать трудно. Грех.
Тимофей Несторович лежит умиротворённый. Поля – молодец. Дала винца – облегчила душу. Избавила от наваждения. От рубахи избавила. Теперь он помнит, что не рубаха его жжёт, а болезнь, смертушка за ним пришла. Пришла, ну и ничего. Ладно. Подождёт.
Он её ещё тогда ждал, тридцать лет тому назад. Нет, не хотел, чтобы пришла, но почему-то думал, что она недалеко. Придёт и покарает его.
Но, оказывается, легко хотел отделаться.
Жизнь оказалась куда бóльшим наказанием. Оно виделось ему в глазах испуганных детей, осиротевших при живой матери; в убегающем виноватом взгляде Саши – Саша, рассказывая, откуда взялось на рубахе его отца чернильное пятнышко, избегает смотреть в полупустой зал, где на первом ряду – он, Тимофей; в понурой, безучастной фигуре Марьи.
Потом Марья рассказывает. Монотонно и безразлично к себе, к тому, что её ожидает. Не говорит – камни кладёт на душу своему Тимофею, могильные плиты на его тело. Того и гляди раздавят.
Говорит о том, как плохо было весной у них в доме. Картошка, что накопали осенью в огороде, кончилась. Ничего не осталось у них, что можно было сменять на продукты. Говорит, что продуктов, выдаваемых по карточкам, хватало только на то, чтобы не умереть; что страшно ей было думать по ночам о голодных детях, но ещё страшней стало, когда однажды она обнаружила, что утеряла карточки за целую неделю. Несколько дней она держалась, давала детям те крохи, что умудрилась выменять на старую свою шаль, тянула, как могла. Хорошо ещё, муж в те дни дома не появлялся, ночевал на заводе.
Все эти дни она бывала у соседки, Пелагеи. Помогала ей приготовить еду, убирала в комнате. Заглянула однажды в ларь, стоявший в кладовке, а там, на дне его, – кринка, закрытая камешком, и две баночки. В кринке – почти наполовину – просо. Одна банка пустая, а в другой, прикрытой блюдцем, на дне – жир. Не жир – выжирки от сала. Давнишние, но годные.
Берегла Пелагея, стало быть, на самый чёрный день.
А у Марьи – вот он, этот день, наступил, чернее некуда. Давит детей голодом, грозит унести в могилу. Почти три года продержались, война на конец поворачивать стала. Неужто отдать на погибель? Помутилось в голове у Марьи. Подумала: всё равно Пелагее мало жить осталось. И боялась, что Пелагея может добрести как-нибудь в кладовку и заглянуть в ларь, но кринку и банку унесла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу