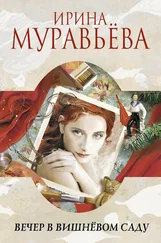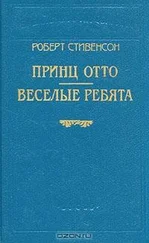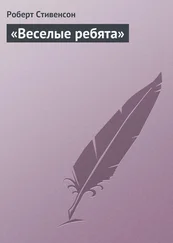Она помолчала, не сводя восхищенных глаз со скособочившегося ведра.
— А ента вон с дитенышком идеть, — вздохнула она. — А сама-то не нашинская, дак. Из какой-то из чужой землюшки. Ишь ты, расфуфырилась, дак, фу-ты ну-ты! Зря, девка, шелковую кофту спачкала! Все одно, дак, раздеваться!
Усачева погрозила пальцем невидимой девке и беззвучно засмеялась, широко разинув рот.
— Ну, иди, иди, милка. Ты, дак, я гляжу, приунытая? А цвятов-то! Хоронили-то, видать, знатно! Гля, Сергунь, как идеть! Вся пуховая! А уж заслюнили тебя, покойницу, целовалися!
Она сползла с лавки, накинула тулуп на плечи.
— Пить мне, Сергуня, — просипела она. — Оченно попить надобно. А нету, дак, ничего. Водица-то у нас вся стухшая. Выпьешь глот и, дак, отрависси.
Сергуня утвердительно замотал головой.
— Ты ко мне не липни, — сурово сказала ему Усачева. — С Борюшкой не подох, а со мной, дак, и подавно не подохнешь. Тебе ишо жить да жить, небо коптить. А я отправляюсь, дак. Мне тока надоть одну женшшину за собой уманить, зажилася. А как эту женшшину, Сергунь, звать, и не помню. Может, Машкой, дак, а может, и нет. Чем тута с вами на холоду грязюку мясить, мы с ей вместе, дак, и отправимси.
Усачева растворила хлипкое окошко, всмотрелась в облетевшие деревья и горько заплакала.
— Нету! — плакала она своим провалившимся, беззубым ртом. — Нету никого, дак! Водицы некому слить! Стухло все внутрях-то у девки! Промыть нечем! Так и приду к Тебе, Господи, вся стухлая, вся неприбратая! Не отвернись от меня, девки, Батюшка, не вели, Батюшка, срам срамить! Прибери меня, девку, раз слово дамши! Виденье-то мне огненное, знашь, за что было?
Она перевела дыханье, набрала полную грудь осеннего воздуха и закричала в деревенскую поникшую красоту:
— Машка! Идем, девка-а-а! Собирайси-и-и! На реке меня жди-и-и! Мне на тебя виденье было, дак, огненное! Слышь, Машка-а-а!
Марь Иванна слышала, разумеется, сквозь чуткий дневной сон, как надрывалась на другом конце света потерявшая рассудок и волю к жизни старуха Усачева. И не только слышала, но и видела саму Усачеву, машущую ей обеими руками с утлой лодочки. На Усачевой было при этом нарядное розовое платье, и всю ее до подмышек запорошил снег.
— Тьфу ты, Осподи! — вскрикнула Марь Иванна, проснувшись. — Навязалась ты мне на голову, горе луковое! По второму разу гляжу! Нашла себе клуб кинопутешествиев! Ну, куда я от своих-то для тебя, дуры луковой, денусь! У меня тут семья на глазах разваливается!
И нисколько Марь Иванна не преувеличила и никаких, к сожалению, красок не сгустила. Семья действительно, что говорится, разваливалась. У гинеколога Чернецкого во вверенном ему отделении скончалась молодая женщина, дочка известного режиссера, только-только родившая от известного же, хотя и варварски бросившего ее актера. И несмотря на то, что официально причиной смерти была признана редкая в Советском Союзе болезнь «анорексия», а именно полное истощение организма по причине голодания, которому предалась дочка известного режиссера после того, как ее бросил легкомысленный актер, — несмотря на это, сам гинеколог Чернецкий и двое его коллег, включая производившего вскрытие профессора Абрама Яковлевича Смуркевича, прекрасно знали, что режиссерская дочка выпила лошадиную дозу снотворного, после чего откачать ее, истощенную голодом и тяжелыми родами, не было никакой возможности. Младенец же, потерявший умершую во сне мать, не захотел оставаться на этом свете сиротой (на актера надежды не было) и кротко умер сразу же вслед за ней, предварительно покрывшись чудовищной какой-то, огненно-синей сыпью.
Похороны были пышными, с музыкой, морем чудных цветов и ненасытными слезами как совсем простых, обыкновенных людей, так и знаменитостей. Виновник случившегося несчастья — немолодой, старше даже отца покойной, известный актер — появился в последний момент, в черном и длинном пальто, с развевающимися над круглой лысиной седыми прядями, порывисто растолкал плачущих, приблизился к нарядному ящику, где лежала умершая мать с невинным младенцем на руках, хотел было стать на колени, чтобы громко стукнуться лбом о деревянную крышку, но был за шиворот оттащен разъяренным и взъерошенным отцом бедной женщины, который — не останови его собравшиеся слезами и криками — запросто укокошил бы мерзавца своей тяжелой, с серебряным набалдашником палкой.
Смерть эта тяжело подействовала на все отделение больницы и послужила поводом к тому, чтобы отчаявшаяся в смысле увода гинеколога Чернецкого из семьи санитарка Зоя Николавна вдруг заявила, что она тоже отказывается от приема пищи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу