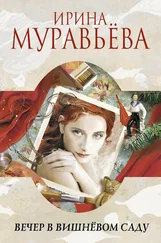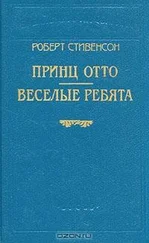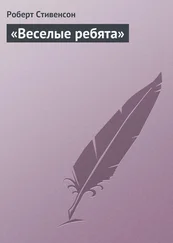— Мадам, — сказал Чугров, будучи музыкантом и артистом, — разрешите мне выразить свое восхищение…
— Иди к Володе, — приказала Чернецкая, указывая тоненьким пальчиком в комнату, где сидел мокрый, сконфуженный Лапидус, — и ждите. Сейчас все придут.
Она не ошиблась. Через пять минут явился последний в знаменитом роду, отчаянно пьющий князь Куракин в заношенной школьной форме и вслед за ним подвижный, как щегол на ветке, с пунцовыми щеками и детскими еще, пухлыми, полуоткрытыми губами мальчик Слава Иванов. Глаза у него были вишневого цвета и блестели от волнения. Он задержался в коридоре, разуваясь, боясь испачкать чистый пол в профессорской квартире Чернецких, и она, маленькая, надушенная, все понимающая про любовь Наташечка, наклонилась, чтобы достать ему из-под вешалки отцовские тапочки. Слава Иванов увидел в вырезе просторного Стеллочкиного кимоно ее белоснежные, будто мраморные, в белом атласном лифчике, груди. Они вспыхнули прямо перед его глазами, будто его же глаза и изваяли их из воздуха. Когда Чернецкая наконец выпрямилась и с понимающим — о, с лукавым, понимающим, вдохновенным от затеянной игры лицом! — протянула ему тапочки, Слава Иванов ответил ей таким обожающим, преданным взглядом, так испуганно облизнул свои пухлые детские губы, что женщина внутри только что надушившейся Чернецкой незаметно ни для кого удовлетворенно кивнула высокой прической и властно перевела дыхание.
Долго и нервно ели икру с шоколадным зефиром, роняли ложки, слишком громко смеялись, слишком шумно хлопали друг друга по спинам. Зрачки обжигало от любого прикосновения к ее узким беспощадным глазам, красному рту, нежному подбородку с крохотной родинкой. Ребенок Чернецкая пригласила к себе в гости детей — мальчиков и, задевая за мокрую золотую листву краем черного шелка, уплыла вместе с ними из скучного, потемневшего от осенних сумерек Неопалимовского в далекую, желтую от вечно восходящего солнца Японию, где они уселись пить чай из тонких фарфоровых чашек, лаская друг друга глазами и обещая друг другу жгучие человеческие наслаждения. В четверть одиннадцатого Лапидус, Куракин и Чугров ушли, а Слава Иванов со своими оттопыренными детскими губами остался.
— Ложись спать, Марь Иванна, — медленно и сладко сказала маленькая японка. — Мы тебе помоем посуду. Мне Славик поможет.
Иванов кивнул своей тонкой, как у гуся, оранжево вспыхнувшей шеей с острым выпирающим кадыком. Марь Иванна оторопело посмотрела на Наташечку, но — ноги гудели, голова лопалась — послушалась и, пробормотав «не разбейте, гляди», пошла к себе в чуланчик, рухнула и сразу заснула. Чернецкая свалила на поднос фарфоровые чашечки, блюдца с недоеденным вареньем из дачного крыжовника, куски надкушенного зефира и сказала мальчику Иванову, у которого бешено колотилось сердце:
— Неси на кухню.
И пошла впереди, как царица. Иванов дрожащими руками дотащил до раковины тяжелый поднос, не глядя, косо-криво поставил в мойку. В кухне неожиданно погас свет. У Иванова пересохло горло.
— Наташ! — хрипнул Иванов. — Ты где? Не видно ни черта.
— Я здесь, — ласково, медленно и спокойно произнесла недавно брошенная любимым человеком Чернецкая. — У окна.
Иванов всмотрелся в темноту, внутри которой шумел громкий и ровный дождь. Она стояла, спиной облокотясь о подоконник, и свет редких фар мертвым светом освещал ее поднятые к прическе руки.
— Ты без зонта, — прошептала Чернецкая, — смотри, какой ливень…
— Плевать, — выдавил ничего не соображающий Иванов, — подумаешь…
Она усмехнулась и вдруг резким движением вытащила из головы шпильки. Прическа рухнула, волосы упали ей на лицо. Свет был только там, где белели руки, которыми она отвела волосы от своих узких глаз, чтобы убедиться в том, что мальчик Иванов еще жив, что он дышит… Но он почти и не дышал. Странная боль в низу живота мешала ему сделать шаг по направлению к ней, и он испугался, что сейчас закричит или еще что-нибудь такое, потому что терпеть эту боль не было сил. Но неторопливая Чернецкая, продолжая слегка светиться в темноте своими поднятыми руками, прошептала ему что-то вроде «иди сюда», и мальчик Иванов рванулся, хрипя и вздрагивая, как конь из упряжки, обхватил Чернецкую дрожащими ладонями, вжался в нее, и боль в низу живота сразу же отпустила его, закончилась, хотя тут же, вместе с освобождением от боли, наступило рабство.
Молодому Орлову все стало ясно через два дня. Он видел, как несчастный, потерявший свою маленькую, на длинной, с острым кадыком шее голову Иванов смотрит на нее и как она в ответ прищуривается, мягко укладывает на щеки загнутые ресницы, которые, вздрагивая, остаются лежать, пряча ото всех ее узкие глаза, а потом медленно приподнимаются, и там — не голубое, не зеленое, не серое и нежное, как у Томки, но черное, пустое и блестящее, которое ничего хорошего никому не обещает! Ни Иванову, которого она не любит, ни кому бы то ни было еще, потому что она никого никогда не полюбит, кроме него, Орлова, каждый день на ее глазах обнимающего Томку Ильину за трепещущую талию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу