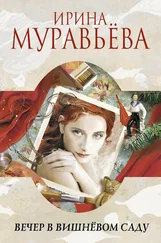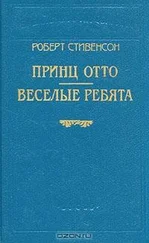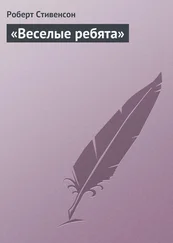«Зачем я живу? — пели чужие голоса внутри растерявшейся Галины Аркадьевны. — Кому я нужна? И разве затем я появилась на свет, чтобы самой мучиться и других мучить?»
Она подняла глаза вверх, увидела над собой огромные, ослепительные звезды, темно-голубое внутри черного, дымное, бездонное, беззвучно звенящее, небесное, и что-то рванулось внутри Галины Аркадьевны, что-то задрожало в ней, будто провели смычком, — неумелым, по рассохшейся скрипке, — но все-таки провели, достали из пыльного футляра эту скрипку, натерли канифолью неуверенный смычок, и Галине Аркадьевне осталось только покориться, только громче заплакать, даже и не приподнявшись, а прямо в крапиве, прямо на земле, полной равнодушной к ней ночной стрекочущей жизни, откуда смотрели на плачущую круглые муравьиные глаза да щекотали ей подбородок легкие пятки не спящих еще насекомых. Долго плакала Галина Аркадьевна, и всхлипывала, и вытирала слезы лопухами вперемешку с недоброй крапивой, и зажимала распухшими ладонями свой ледяной беспокойный живот, пока наконец не заснула, провалившись в глубокую, жаркую, как нагретая любовью перина, черноту, откуда и поплыли ей навстречу разные сновидения.
Сначала она увидела совсем розовую, как июльская земляника, девочку, ростом меньше Дюймовочки, которая примостилась на ее руке и заглянула ей в глаза жгучими глазками в густых ресничках. Галина Аркадьевна без промедления почему-то вспомнила, что девочку зовут Улей и это ее дочка. Сердце внутри Галины Аркадьевны стало мягким, как воск, и потекло сначала вниз, к животу и коленям, а потом вверх, к горлу и нёбу, и столько нежности охватило его по дороге, столько восторженной любви, что Галина Аркадьевна разрыдалась во сне сладким каким-то, не своим рыданием, и уже ничего ни у кого не требовала, никого ни в чем не упрекала, а только радовалась на маленькую Улю, прижавшуюся к ее груди, словно воробышек, и дышащую ей в лицо запахом белого клевера.
«Ты мамочка моя, да?» — серьезно говорила ей девочка, а Галина Аркадьевна ничего не могла ответить, захлебываясь восторженными слезами, и только гладила русую дочернюю головку распухшими своими ладонями.
Но едва она втянулась в материнское блаженство, насладилась им, едва забурлил там, во глубине блаженства, страх, что дочка голодна и не готова к зиме, как Уля прямо на глазах стала вдруг еще меньше, размером со спичку, и ужасно бледненькой, словно смертельно чем-то заболела. Галина Аркадьевна подумала, что ей холодно, и начала было торопливо пеленать Улечку в неизвестно откуда взявшиеся голубые пеленки, но девочка вся горела и смотрела на Галину Аркадьевну с немым удивлением, словно хотела упрекнуть ее в том, что вот, как же так: родила ведь, а помочь не можешь. Через минуту девочки не стало, и куда она делась, испарилась или растаяла, Галина Аркадьевна так и не поняла, но затосковала по своей крошечной, умершей, судя по всему, доченьке лютой черной тоской, будто самое ее закопали в землю по пояс, чтобы стояла так, не дыша, волком выла в сосновые вершины и мучилась.
Другое сновидение было про любовь к Вартаняну, которого Галина Аркадьевна сразу узнала, хотя он не совсем походил на мальчика, а был чем-то плюшевым, мохнатым, смешным, вроде игрушечного медведя, которого когда-то подарили первокласснице Галине Анисимовой на Новый год. Лица у Вартаняна не было, но были мягкие ресницы, брови и волосы, в которые Галина Аркадьевна — не взрослая, как сейчас, женщина, а семилетняя Галина Анисимова, — запустила свои перемазанные чернилами, торопливые пальчики.
«Только чтобы он не пропал, чтобы его не забрали у меня, как ее, — молила, как могла, Галина Аркадьевна, изо всей силы прижимая к груди мягкое, плюшевое, с густыми ресницами, — а то ведь я так тоже могу умереть, потому что чем же мне прожить мою жизнь? Нету ведь у меня ничего!»
Никогда не случалось таких мыслей у настоящей Галины Аркадьевны, всегда была ее жизнь наполнена то учебой, то работой, то вступлением в партию, то борьбой, то солидарностью, всегда бушевала вокруг нее огромная страна, расцветали от неустанной заботы молодые республики с узбечками в тюбетейках, собранным наперегонки урожаем и наспех освоенной целиной, ревели самолеты, уходили в моря свежеотбеленные ледоколы, выпрыгивала на сцену, стуча острыми каблуками, чернобровая Эдита Пьеха, и Майя Кристалинская с шарфиком на прооперированном горле медленно и сладостно пела своему другу или, может быть, даже законному мужу, что вот ты, дескать, летишь по небу, а тебе дарят зве-е-езды-ы-ы свою не-е-ежно-о-ость!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу