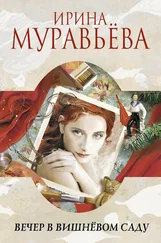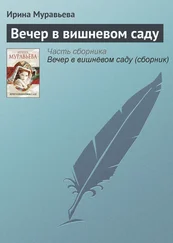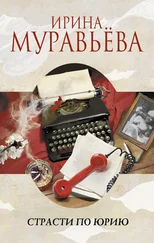— Как нравится гостю?
Гость только беспомощно развел руками. За завтраком, на котором и в самом деле были среди прочего блины с красной икрой, он вдруг спросил, что за несчастье приключилось с дочерью профессора Пшехотского.
«Она побежава от нас и потом не вернувась, — отводя свои острые глаза, по-русски ответил Пшехотский.
— Где это случилось?
— Свучилось? Свучилось в Европе. Жеваете кофе?
— Спасибо. Но что это было? Как так — убежала?
— Врачи говорили, что это болезнь, — переходя на английский, ответил Пшехотский. — Но я им не верил. Я сам знал причину.
На дряблых, чисто выбритых щеках его зажглись малиновые пятна.
— Я очень любил ее мать. Она ревновала меня к своей матери.
— О господи, этот проклятый фрейдизм! — не удержался Трубецкой.
— При чем здесь фрейдизм? — У профессора Пшехотского влага, скопившаяся от старости в уголках глаз в виде серо-голубого желе, вдруг ярко порозовела. — Вульгарная чушь. Он был импотентом. И будучи импотентом, он приказал своей бедной голове сочинить самую что ни на есть постыдную картину нашей жизни. Любви он не знал, и людей он не знал. Одни тошнотворные призраки.
— Но как же она убежала? — продолжал допытываться Трубецкой. — И вы не искали ее?
— Мы не только искали ее и на ноги поставили всю полицию, но мы ее вскоре нашли.
Пшехотский вдруг вскочил, сделал несколько ослепших шагов в сторону камина, но тут же опомнился и снова сел.
— Она оказалась на дне. Среди наркоманов, больных, идиотов. Вы знаете дно?
— Я? Нет, не очень. Скорее, по книгам.
— Ну, значит, не знаете. Она предпочла эту жизнь нашей жизни. Мы дважды возвращали ее, и дважды она убегала опять.
— Но как? Почему?
— Она не хотела делиться любовью. — Длинные сухие ноги профессора Пшехотского сделали судорожное движение, словно он хотел опять вскочить и побежать. — Она видела, как я служил ее матери, и ей стало казаться, что она не только не красива и не умна, как ее мать, но ей стало казаться, что она самая никудышная и невзрачная девушка в мире. А я был тогда молодым, ничего не заметил… — Он все же вскочил и быстро прошелся по комнате. — Ирина в раю. — Пшехотский кивнул на портреты казачки. — Ангелина в аду. А я все живу, копчу небо. Пойдемте.
В кабинете, заставленном книгами и увешанном иконами, он вынул из папки небольшую, рисованную чернилами и карандашом картину и близко поднес ее к глазам Трубецкого.
— Филонов. «Мужчина и женщина». Копия. А я хочу подлинник.
Трубецкой испуганно заморгал.
— Чего вы боитесь? — с легким презрением спросил хозяин. — Здесь есть один русский художник, он делает копии. Под лупой не отличите. Картинка сейчас пока в Питере, в Русском музее. Ее для вас вынесут и поменяют на эту. Положите в папку и все.
Лицо Трубецкого сморщилось от гадливости.
— Вы скажете мне, что это и есть преступление? — вдруг разволновавшись, заговорил Пшехотский. — А я вам отвечу: нет, это не есть преступление. Для картины безразлично, где она находится. Нужно только поддерживать для нее определенную температуру воздуха. Людям, которые приходят в Русский музей, никогда в жизни не отличить копии от подлинника. Я сам почти не отличаю. Есть, собственно, всего одна трудность: чья это собственность? Собственность ли это Российского государства, которое убило художника, или же это собственность покойного Николая Ивановича Филонова, или же это вообще ничья не собственность, и дело только в том, что можно извлечь из тех денег, которые стоит работа?
Трубецкой слушал внимательно, но выражение гадливости, застывшее на его лице, не уходило.
— Они убили его! — тонким, как у мальчика, голосом вскрикнул Пшехотский и стукнул ладонью по какой-то большой книге. — Он умер от голода! Они уморили голодом целый город и потом объявили его мертвецов героями! Они же вампиры! Они жрали кровь. Кровь и мясо. А он голодал. И это не только в блокаду. Не только! Все время, все годы! Он записал в своем дневнике, что ест один хлеб. Хлеб и чай. Один раз он купил себе немного цветной капусты, и это был праздник.
— При чем здесь картины? — тихо спросил Трубецкой.
Он хотел спросить: «При чем здесь воровство?» Но не спросил.
— Что значит — при чем здесь картины? — удивился Пшехотский. — Они не давали ему работать, преподавать, участвовать в выставках. Они все равно убили бы его как-то иначе, но голод помог им, он взял на себя этот труд. Вы думаете, что в небесах, — Пшехотский вскинул вверх свою высохшую, в старческой коричневой крупе руку, — ему бы хотелось, чтобы они им владели?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу