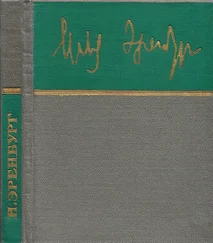– Меня хрупкость удивляет…
– Чего?
– Всего. Кажется, я не девочка, можно было привыкнуть, но нет…
Андре был потрясен: она говорила за него.
– Почему мы думаем одно и то же?
– Должно быть, от искусства… Когда я была на заводе, я это почувствовала… Они могут нас считать своими, любить, баловать, но вот придет минута, и мы окажемся в сторонке. Не умею объяснить… Вы обратили внимание, как люди произносят слово «искусство»? Иногда как начало молитвы, а чаще как название болезни: чума или азиатская холера. Наверно, скоро придумают прививку… Андре, вы любите кататься на карусели?
Загадочные звери, зеленые и оранжевые, драконы, единороги, кентавры подымались, падали, неслись.
Огромная шарманка ревела: «Ты не узнаешь никогда…» Они взобрались на синего слона. Духоту вдруг сменил резкий ветер.
Они сошли вниз, обнявшись. Молчали. В такие минуты страшно сказать слово, страшно даже оглянуться или шевельнуть рукой: кажется, что счастье можно рассыпать, расплескать.
Первой опомнилась Жаннет. Ей стало тревожно: если не уйти сейчас, будет горе! Это не минутное увлечение, это что-то тяжелое, засасывающее. Они не могут жить вместе: они поражены одной болезнью; они той же породы… Как он сказал?.. Да, растение, перекати-поле… С ним? Нет, это кровосмесительство!
– Андре, мне пора. Меня ждут.
На темном углу площади, под каштаном, среди листвы которого мерцал один, будто заблудившийся, фонарик, она его поцеловала, нежно и отрешенно, не как человека, как подарок. Он ее робко обнял; она отстранилась:
– Не нужно…
Он не спросил: почему? Они молча шли назад, к площади Контрескарп; молча простились.
Актеры подтрунивали над Жаннет: «таинственный поклонник»… Она не отвечала. Ее мучила жажда, и она пила кислое вино, как воду. От вина стало еще жарче; стучало в висках. А шарманка все с тем же ревом жаловалась на неудачную любовь, и смутно Жаннет подумала: так, наверно, слон объясняется в любви. Синий слон… Что она наделала? Ей захотелось говорить – много, громко, быстро.
– До чего смешно!.. Ее держали всю жизнь под землей… В метро. Нет, глубже – в шахте. Еще глубже – в аду. Потом вывели и говорят: «Бегай, смейся, дыши!» А она ответила: «Нет». Почему? Потому что ей нельзя бегать, нельзя смеяться, нельзя дышать. Нет и нет!
– Что ты рассказываешь? Кто ответил?
– Богиня из учебника. Один знакомый. Не бойся, Марешаль, не ты, не актер. Пивовар. Или я. Разве не все равно – кто?
– Да ты попросту выпила.
– Не знаю. Но мне хочется говорить. А говорить тоже нельзя. Скажи, Марешаль, ты когда-нибудь думал о счастье?
– Нет. О счастье никто не думает.
– Вот и неправда. Я все время об этом думаю. Гляжу на них и думаю. Видишь, как они берегут свое счастье?
Под стеклянным колпаком, как сыр. Или под байковым одеялом. И танцуют, танцуют… Сегодня они еще могут танцевать. Помнишь стихи: «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют…» Тогда земля тряслась. Что же, может снова затрястись – здесь. Или откроется новый вулкан. Или придет чума. Или начнут с неба падать бомбы. Я не знаю что… Но какое это хрупкое счастье! Осторожно, Марешаль, не дыши!..
Она говорила, а слезы бежали из глаз. Рассвело. Люди расходились по домам. Кто-то рядом твердил:
– Не огорчайся, котик, завтра будем снова танцевать…
При дневном свете лица казались призрачными. А на опустевшей площади валялись затоптанные цветы, кожура апельсинов, окурки, пробки, хлопушки.
Когда Андре вернулся в свою мастерскую, розовое большое солнце подымалось над морем крыш; все теплилось, дрожало. Андре сел у окна. Грусть в нем медленно вызревала. Он вспомнил все: далеко в темноте сумасбродной ночи еще горел, среди коленкоровой листвы, бумажный фонарик… Как это солнце… А карусель неслась слишком быстро. Да и все так несется – не понять, не увидеть. Буря и дерево живут по разным календарям.
Андре вспомнил слова Сезанна, над которыми он часто думал: «Нужно долго наблюдать природу. Тогда видимое освобождается от влияния света, от всего случайного, и размышление рождает понимание». Хорошо ему было в тихом Эксе! Да и времена были другие. А Жаннет сказала: «Не нужно». Что «не нужно»? Хотеть? Надеяться? Понимать?
Солнце уже было высоко. Город спал, мертвый от усталости, под пышным светом; и свет съедал все краски; как слепой, Андре глядел на непонятный ему мир. Он уснул сидя, замер, залитый золотом июля.
Генерал Пикар на буланом коне был великолепен; среди марокканских стрелков он казался ожившим полотном старого баталиста.
Читать дальше