Сигго, который служил мажордомом у Сайкса (и два года спустя погиб от несчастного случая во время странного чаепития в присутствии королевы Александры в Кенсингтонском дворце), описывал этот момент следующим образом: «Уинни раскатал свою карту по всему столу, и она хлопнула как брамсель, надувающийся на мачте, когда вы в сильном прибрежном течении проходите на скорости в двадцать узлов недалеко от порта Каус». Такое вот яркое сравнение. Прекрасно понимая, что происходит, Делаваль-Путрийер попытался возражать, ссылаясь на протокол, но Черчилль ткнул в сторону француза своей сигарой, «похожей на обкусанную сосиску», и пригрозил расширить зону действия Бальфуровской декларации, [8] Декларация премьер-министра (1902–1905) Великобритании Артура Джеймса Бальфура (1848–1930) о создании в Палестине еврейского «национального очага» (1917)
определявшей Палестину в качестве новой родины для евреев, на Ливан и Сирию, которые находились во французской сфере влияния.
Как сообщил Флег-Райт в своей телеграмме Артуру Гленвуди тем же утром, меньше всего на свете французы хотели, чтобы «арабский мир захлестнули волны прибывавших со всего мира строителей кибуцев». Подобный поворот привел бы также к неизбежному конфликту британской ветви семьи Ротшильдов с представителями ее французской ветви, которые уже довольно долгое время присматривались к западным склонам долин Бекаа и Нуш, планируя разбить там виноградники для экспериментальных сортов черного совиньона. Делаваль-Путрийер не мог ничего поделать. Его явно переиграли.
Король Таллула пришел в ярость, увидев, как обещанное ему побережье исчезло при помощи нескольких штрихов, сделанных карандашом британского картографа. Он громогласно объявил конференцию «сборищем жаб и шакалов» ( «джамаа мин этхеаб в эддафадэх») , шумно покинул зал и умчался из Дамаска в сопровождении двухсот бедуинов, служивших его личными телохранителями. Господин Пико заметил на это господину Гастен-Пике буквально следующее: «Только его и видели».
С другой стороны, Газир бен Хаз, толстый и сластолюбивый правитель небольшого племени вази-хад, состоявшего из торговцев и рыбаков, которые населяли это побережье со времен Александра Македонского, теперь вдруг оказался эмиром новой страны, наглухо перекрывшей все пути к морю для нефти из Васабии. Черчилль, разумеется, этого и хотел. А как еще можно было отплатить королю Таллуле за его упрямство при обсуждении предложенных ему тарифов на финики, не говоря уже о бесконечных спорах на тему: кто должен въехать в Дамаск первым и в каком наряде?
В тот же самый вечер Черчилль беседовал с Глэндсбери в биллиардной комнате Британской миссии. Когда им подали бренди и сигары, он признался, что никак не может решить, от чего ему так хорошо на сердце – то ли от унижения Делаваль-Путрийера, то ли от того, что «этот говнюк Таллула может теперь подавиться своей нефтью».
Король Таллула был вынужден заключить сделку с эмиром Матара. Подписав договор, Васабия довольно быстро построила свой первый нефтепровод к заливу через Матар. В последующие годы прибавилось еще более десяти таких нефтепроводов. Иных путей доставить свою нефть на рынок у Васабии просто не существовало.
Экономике Матара этот поток черного золота явно шел на пользу. Эмиры никогда не публиковали официальных отчетов, однако ежегодные доходы от так называемых «взносов вежливости», переводимых Васабией в казначейство бен Хаза, к концу столетия оценивались уже в десятки миллиардов долларов. Династия бен Хаза тем временем неукоснительно продолжала придерживаться официальной версии об источниках столь баснословного богатства страны. Правительство утверждало, что источником денег служит фиговое масло, финики, рыболовство и туризм.
Последнее утверждение было в определенном смысле и самым наглым, если принять во внимание ужасные матарские песчаные бури и летнюю температуру воздуха, не опускавшуюся ниже сорока градусов. Однако Матар мог вполне честно заявлять о том, что часть его огромных доходов приносят азартные игры. Нынешний эмир построил на прибрежных островах, куда можно было добраться по десятимильной дамбе, целый комплекс отелей, казино и парков развлечений, который он весьма остроумно назвал «Страной неверных». Коренным жителям эмирата (официально) не разрешалось ездить на острова и предаваться азарту – включая все побочные действия, – однако этот закон крайне редко упоминался в теории и никогда не применялся на практике. Эмир провозгласил его лишь для того, чтобы соблюсти приличия в глазах местных священнослужителей.
Читать дальше
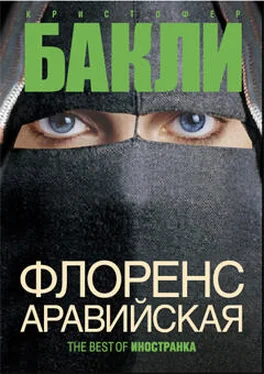
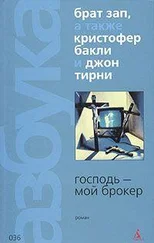


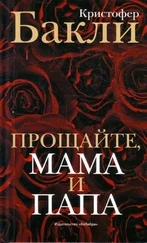
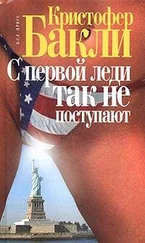
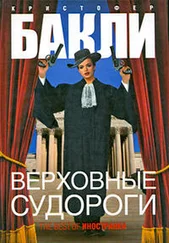
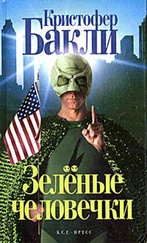
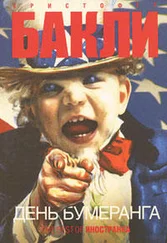
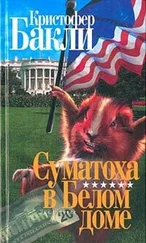
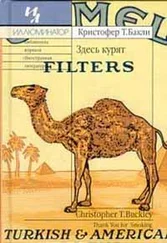
![Кристофер Бакли - Собиратель реликвий [litres]](/books/396896/kristofer-bakli-sobiratel-relikvij-litres-thumb.webp)
