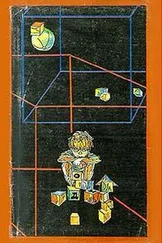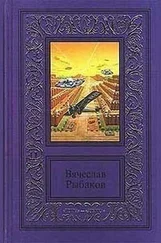— Гулага... — медленно, чуть ли не по слогам повторила лысая девица с металлическими рожками. Это слово ей явно ничего не говорило. — Но ведь она, наверное, знала, что это нельзя... Зачем же она читала этого Гулага?
— Потому что правды хотела! — рявкнул я, теряя терпение. — Мы все хотели правды, а это было нельзя! Вот как вы сейчас! Только вам можно, а нам было нельзя!
Молчание. Тишина.
— Черт возьми, — сказал я почти яростно. — Вам даже не представить, какой это был идиотизм. Нас с детства, с детского сада приучали ходить строем! Колоннами по двое! И кормили всех одинаковой дрянью, а кто отказывался есть, тех публично карали! Какие-нибудь морковные котлеты, которые и в рот-то взять тошно...
Наверное, блевотный вкус пережаренных на прогорклом масле морковных котлет — это мое первое сохранившееся воспоминание. Первая оставшаяся в сознании встреча со страной проживания. Первое значимое соприкосновение с реальностью.
Сколько мне было? Три? Четыре?
Детский сад. Советский детский сад, тюрьма для малолетних преступников, все преступление которых состоит в том, что они родились в стране победившего Октября. Я давлюсь, я не могу это есть. Меня заставляют. Когда меня начинает мутить, когда к горлу подкатывает тошнотворная сладковатая масса, которую не принимает желудок, я плююсь. Мне велят встать из-за веселенького зелененького пластмассового столика, за которым покорно давятся и не плюются еще трое таких же бедолаг, и на глазах у всей группы — одиннадцать одинаковых веселеньких столиков — ставят в угол. И там я снова плююсь, уже нарочно, из принципа. Все смотрят на меня, и никто не плюется, все только давятся.
Любые котлеты с тех пор мне кажутся пережаренными.
— В них были превышены нормы предельно допустимых концентраций? — сочувственно спросил кто-то из глубины.
— Не знаю, — после паузы ответил я.
Не о том они, не о том.
— От них умирали?
Как хочется ответить «да», чтобы до них дошло наконец!
Ненавижу себя. И в особенности — свою честность.
— Нет, — ответил я. — Иногда дристали только.
— Дристали, — нерешительно повторила рогатая девица. — Это вроде карциномы?
Вот же дура.
Скоро в русском языке ни одного русского слова не останется.
— Нет, — сказал я. — Проходило само.
— А сколько эти котлеты стоили? — выкрикнули с задних рядов.
— Это было бесплатно, — сказал я, уже начиная понимать: они слышат в моих словах совсем не то, что я этими словами говорю.
— Бесплатно? — ахнули там.
Опять стало тихо.
Некоторое время я молчал, ожидая новых вопросов. Но вопросов не было.
— Я понял, — сказал потом татуированный. Обернулся к своим. — Я предупреждал... — Потом опять посмотрел на меня. Уже с явной неприязнью. — Вы как все они.
— Кто они? — устало спросил я.
— Известно кто, — сказал он. — Меня только одно утешает. Вот мы все сдохнем... И я буду смотреть сверху, как вы тут останетесь вечно мучиться в этом аду.
— Бога нет, — сказал я.
Он встал. Я напрягся. А если небрежно повешенный на спинку стула автомат все же настоящий? Да и без автомата... Вон какие кулачищи ему задарма, как во времена дикарей, прилетели от природы. Кожа в трещинах и лишаях, да, но сами-то... С мою голову размером.
Он навис надо мной и протянул руку. Не кулаком. Раскрытой ладонью.
— Замажемся? — спросил он.
Смешно. Кто и когда сможет проверить, я проспорил или он? Я без колебаний протянул ему свою ладонь. Гнилозубый молча разбил.
И тут холодок сомнения лизнул сердце. Стало жутковато.
Потом стало просто жутко.
Вечно мучиться этой болью... И порой ловить себя на опасливой мысли: а вдруг он все-таки смотрит?
Вечно. Всегда. В двадцать первом веке, в двадцать втором веке, в двадцать третьем... В двадцать четвертом... Никто уже не припомнит, что такое особые тройки, Хрусталев — машину, ботинок в ООН или сиськи-масиськи. Никому дела не будет, кого звали Кремлевским Горцем, а кого Кукурузником, никто не засмеется, узнав, что за звук раздастся, если какого-то Брежнева треснуть рельсом по голове. Никто не сможет воскресить мысленным взглядом задумчивую девушку с гитарой посреди пепельной белой ночи, негромко поющую друзьям «Чтоб не пропасть поодиночке»... Уже никто. Ни единая живая душа. А у меня по-прежнему будет болеть желудок.
Ну нет. Дудки. Не будет.
— Вы хотели правды? — ледяным голосом спросил я. — Так вот вам правда. Про этот ваш СССР. Я никогда еще об этом не рассказывал, потому что очень уж мерзко. Партийные руководители начиная с определенного ранга на завтрак ели детей. Была у них такая привилегия. Младшеклассников в основном. Кто помягче, понежнее. Обкомовские холуи спозаранку ездили на черных «Волгах» и присматривались к идущим в школу ребятишкам. Кто понравится — хвать, и в багажник. И на кухню. А если родители пытались возражать, им говорили, что это необходимо для дела построения коммунизма. И родители умолкали, потому что советскому человеку ради построения коммунизма ничего было не жалко.
Читать дальше