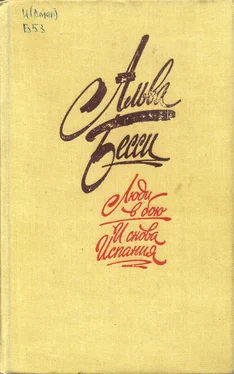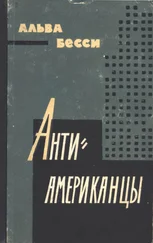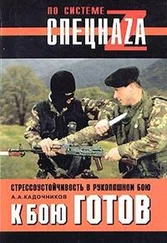Поздней ночью нас снова перебрасывают из резерва на холм чуть южнее; мы узнаем, что готовится наступление на Гандесу. (Двум частям, сменившим нас, как нам говорят, удалось взять холм, который мы так безуспешно атаковали, и теперь дорога на Гандесу свободна.) Нам говорят, что нас поддержат артиллерия и авиация; наступает жаркий рассвет, мы сытно завтракаем; на этот раз еды даже больше, чем надо, — ломтики ветчины валяются на солнце, не проходит и четверти часа, как они протухают.
Когда приходит приказ, мы гуськом спускаемся по склону, еще ощущая во рту вкус завтрака: кофе, шоколада, ветчины и сардин, хлеба, мармелада и слив. В теле приятная сытость, но нервы, разумеется, напряжены — обычное волнение перед боем, которое обостряет чувства и заставляет замечать то, чего не замечал прежде: ящерицу, высунувшую голову из расщелины потрескавшейся вулканической породы; оборванный шнурок на ботинке, грязный подтек на чужом лице. К городу сквозь параллельные ущелья движутся две дивизии.
Ущелье, вначале широкое, дальше сужается — классическое дефиле. Впереди нас 24-й батальон вступил в бой с противником; нам не видно их из-за листвы, зато, пока мы ждем, приникнув к сухой земле, прячась под террасами, за оливковыми деревьями, нам слышно резкое, металлическое пение пулеметов, щелк винтовочных пуль над головой. Когда оглядываешься вокруг, видишь, как люди вжимаются в землю, скрываясь с глаз, лишь их винтовки торчат над естественными брустверами (Кёртис и вовсе исчез). Снизу появляется посыльный, он перебегает от дерева к дереву и вдруг возникает рядом со мной, весь в мыле. Солнце поднимается и стоит прямо над головой, жжет спины и шеи, у нас нет воды, и мы мучаемся от жажды, ожидая, когда придет приказ выступать, гадаем, долго ли нам еще его ждать, гадаем, что будет, когда он наконец придет, чем встретит нас противник в узкой горловине ущелья, когда мы пойдем в атаку. Слышу голос нашего «хочкиса» с горы слева и станкового «максима» справа (всегда знаешь, когда у пулемета сидит американец, он не может удержаться, чтобы не отбить ритм: «Стрижка-брижка, два гроша»). Над головой кружит самолет… Ищет, находит? Мы ждем — вот сейчас он нас засечет, смотрим, как он маневрирует, кренится и разворачивается, взлетает вверх, ложится на крыло, выискивая то, что рано или. поздно неизбежно найдет. Мы следим за тем, как с переднего края, который удерживает 24-й батальон, несут носилки с ранеными.
Можно совершенно безучастно следить за тем, как несут носилки с ранеными. Ты отмечаешь про себя, какое ранение — тяжелое ли (скажем, кишки аккуратно сложены горкой на животе), пытаешься хоть мельком увидеть лицо раненого, думаешь: «Того и гляди, и я отправляюсь в госпиталь», думаешь: «Очень ему больно?» Одни за другими с передовой несут носилки, они покачиваются между корявыми стволами олив; над camilleros [147] Санитарами (исп.).
свищут фашистские пули. Им не позавидуешь, жизнь их нерасторжимо связана с жизнью товарищей, которых они несут, зависит от них. Смотришь на них и думаешь: «Того и гляди, и меня так понесут», или: «Когда это будет?», или: «Тяжело ли меня ранят?» Гадаешь, как там дела у наших впереди, скоро ли придет приказ; гадаешь, где же наша артиллерия, когда же она откроет огонь и где же обещанные самолеты? Прислушиваешься, не летят ли они.
Просыпаешься, с удивлением сознаешь, что задремал на солнцепеке; жара и пыль, жажда и напряжение — все вместе притупило чувства, парализовало бдительность, и тело ухватилось за возможность передышки, в которой оно так нуждалось, — передышки, без которой пришлось обходиться в предыдущие дни, когда было не до отдыха. Просыпаешься рывком, недоумеваешь, как это тебя угораздило заснуть под обстрелом, душа у тебя уходит в пятки при мысли, что ты себе позволил, — ты похож на человека, чудом избежавшего несчастного случая, который вдруг осознает, как близок был к смерти, и чувствует, что у него внутри все свело от страха. К тебе возвращается бдительность, а с ней острота ощущений и нервное напряжение. Кто-то из бойцов ест рядом сардины; до тебя доносится запах нагретого оливкового масла. (Потом остатками масла он смазывает винтовку.)
Весь день в удушливой, раскаленной жаре, изнывая от жажды, мы ждем; солнце печет нам спины, с левого склона ущелья доносится громкий стрекот «хочкиса». «Чертов идиот! — думаем мы. — Не может хоть ненадолго заткнуться. Расплавит ствол и себя обнаружит». Сумерки приносят с собой приказ наступать и многое другое. Напряжение спадает, и ты облизываешь пересохшие губы еще влажным языком. Над правым склоном ущелья ровными очередями медленно взлетают трассирующие пули, в угасающем свете дня они напоминают розовые огненные шарики. Они летят через ложбину прямо к «хочкису», но он все строчит и строчит.
Читать дальше