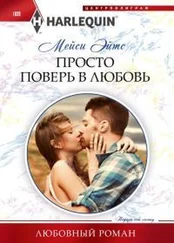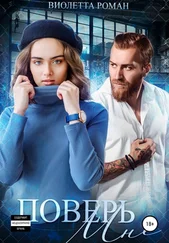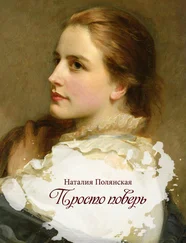Путешествуя по Казахстану спустя много лет, завернул в этот аул, затерянный в предгорьях Джунгарского Алатау (что значит в переводе «пестрые горы»), долго разыскивал его на карте. Мои провожатые — водитель и местный культуролог — лезли из кожи, стараясь помочь гостю поскорей попасть в заметенное пылью, ничем не примечательное селение, навевающее тоску и скуку. Оставив машину на околице, я прошел аул насквозь со странным чувством возвращения в места, где я никогда не бывал, но близкие, едва не родные, потому что связаны были с ее жизнью: вот в этом арыке она мыла ноги, с этим примерно осликом играла, под этой шелковицей читала свою первую книжку. Местные мальчишки отвели меня сначала к дому сельского учителя, где она жила, потом к обветшавшей школе с гипсовым пионером, отдающим салют куском торчащей из локтя арматуры, где училась, потом к дому старого беркучи, выкармливавшего молодых беркутов для степной охоты на зайцев и лис (лучшая новелла в книжке), — давно умершего старика-охотника, о котором этот заезжий непонятный русский где-то узнал, помнит и знает все-все про их жизнь: детские игры, пещеры, табуны, отгонные пастбища джайляу.
Я шел по следам ее детства, написанного по чужим робким прописям и расцвеченного так ярко и вдохновенно, что за него дали комсомольскую премию, вся страна читала и очаровывалась историей дружбы старого беркучи и казахского мальчика, а на самом деле — русской девочки, раскрасившей цветами литературного красноречия чужое детство (раз свое шестой год лежит в издательстве без движения, и надежд на скорый выход книги нет), подарившей ему так много своего, что невольно перелилась в эту далекую жизнь с ее мечтами и заботами, приняв ее как свою, за свою. Далекая степная йокнапатофа, населенная суровыми немногословными людьми, порожденная силой ее воображения русско-казахская сказка, которая сложилась и не сложилась, окраина Средней Азии, из которой Россия давно ушла, отхлынувшая, как больной Арал, оставив на берегах остовы кораблей, клубов, фельдпунктов, метеостанций, гипсовых пионеров, чтоб когда-нибудь вернуться с приливной волной, как прибывает вернувшийся в свои природные границы соседний седой Каспий...
Днем у нас в редакции побывал Иван Стаднюк — известный писатель, секретарь СП, классик и лауреат, кто говорил — сталинист и бездарь, кто — человек хороший, сделал квартиру тому и тому, большой начальник. Саша Ж-ов выпускал его четырехтомное собрание сочинений. Работы было много, приходил Стаднюк часто, приносил коньяк, сидели, выпивали. Я расспрашивал его о фильме про ракетчиков «Ключи от неба», сценаристом которого он значился, грешным делом подозревая, что сценарий не его. Не сходилось вроде: в прошлом фронтовик, политруком и журналистом прошел всю войну, по возрасту ракетных войск ПВО не знал, от моих расспросов уклонялся. Такое бывало: молодые сценаристы, чтоб быстрей запустили в производство, соглашались на соавторство, а то и на негроработу втемную, если деньги нужны, а имени нет. Но потом почитал сценарий и понял, что его может написать любой — ракеты там не главное, легкий такой водевильчик, игра в любови-расставания. У фильма был консультант, он, видимо, и отвечал за техсодержание. Там еще комичные команды во время ракетного пуска в кабине «У» — таких команд нет, это для маскировки придумали, чтоб враг не проведал.
Здесь надо объяснить, что значил для меня этот фильм — столько лет прошло, а до сих пор смотрю, смеюсь над легкой, пузырчатой комедией, где вот уж офицеры так офицеры — красавцы, остроумцы, форма сидит как влитая, пружина сюжета работает туда-сюда, как возвратная в карабине СКС, диалоги точны и дурашливы, девушки красивы, голых коленок хватает, в самый раз для солдат, смотрящих это изделие Главпура, точно дозирующее лакировку и юмор, девушек и ракеты. Многие поступали в училища, посмотрев этот фильм, — после выхода «Ключей от неба» в в/у ЗРВ хлынул поток заявлений. В солдатском карантине на «Корейке» нас познакомили с новинкой — суперсекретным комплексом С-200, укрытым сетью от спутников-шпионов, укутанным в сеть, как муха в паутину, а вечером показали в открытом зале под байконурскими звездами это кино про СНР-75-й, на котором буду служить, на фоне которого пели, влюблялись и маршировали бравые киносолдаты — не нам, зачморенным духам-новобранцам, чета. Песню из фильма « А мы, как летчики, как летчики, крылаты, только не летаем в облаках, а мы ракетчики, ракетчики-солдаты, охраняем небо от врага, тверже шаг, слушай, враг! страшись ответа грозного! нам по велению страны ключи от неба вручены, ключи от неба звездного!..» будем орать во всю глотку, сажая голос зимой и летом, с разворотом плеча и отмашкой, боевая байконурская рота, готовая через одиннадцать минут к пуску, гремя ослиными по плацу, многоногая солдатская гусеница дивизиона, мучимая сержантами и спермотоксикозом, мечтающая о подушке и дембеле, до которого как медным котелкам. Творение Василия Федорова, с которым спустя много лет я окажусь за одним столом и буду смотреть, как известный поэт, два года мучивший меня своими кособокими виршами, медленно надирается, быстро надираясь вместе с ним:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

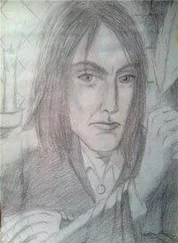


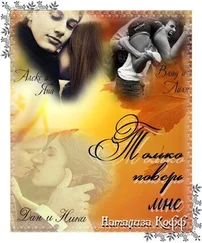
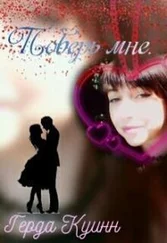
![Виолетта Роман - Поверь мне [СИ]](/books/432777/violetta-roman-pover-mne-si-thumb.webp)