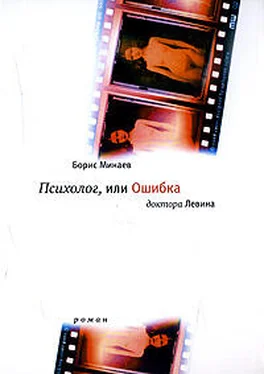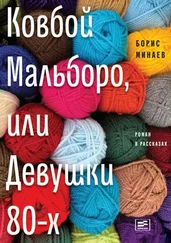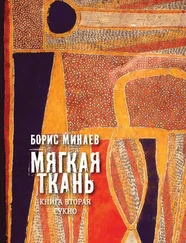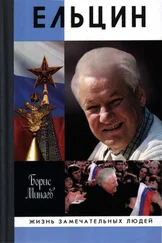После их детской свадьбы, когда гурьбой шли от загса по Кутузовскому проспекту, орали песни, хохотали, он попробовал взять ее на руки, но не получилось, она вырвалась, шепнув (ладно тебе, все равно не сможешь, не надо героизма, а то мне будет стыдно), выпили три бутылки сухого на двадцать человек, опять орали песни, говорили тосты, красивые, но он ни одного не запомнил, провожали их той же гурьбой, но уже на троллейбусе, до Киевского вокзала (песни орали и в троллейбусе, и на вокзале, народ очень нехорошо на них косился, кричали «горько» в троллейбусе, но она целоваться в общественном транспорте отказалась), они уже были в вагоне, и народ все стоял на перроне, обнявшись, и орал песни (как хорошо ты придумала, сказал он), их заслонила проводница, он обхватил Лизу за коленки и наконец поднял, чтобы она увидела друзей, помахала им рукой, Левин папа стоял в стороне чуть грустный, хотя улыбался, она очень сильно врезалась головой в потолок, чуть не заплакала от боли, ну ты дурак, да? – он стал ржать, целовать в макушку, потом сидели в поезде, взявшись за руки, соседями по купе оказались два командировочных, хмурых и невнятных, с ними не разговаривали, быстро съели курицу, улеглись спать, захрапели, они с Лизой лежали на верхних полках, взявшись за руки (вот отчего командировочные-то были хмурые, – взрослые дядьки, все понимали, и им было неудобно), и он думал при свете ночника: неужели вот такой будет их первая брачная ночь, ну неужели?…
Слушай, я так не могу, – сказал Лева.
Иди сюда, – сказала она.
Он выключил ночник и в мгновение оказался на ее полке. Было очень тесно. Вагон качало. Командировочные храпели. Пахло курицей. Но было абсолютно все равно…
Они накинулись друг на друга, как сумасшедшие, она быстро задышала – тяжело, горько, как будто сейчас заплачет…
– Слушай, – сказал он потом. – Тебе будет мокро. Иди лучше туда, на мою полку.
– Никуда не полезу, – сказала она. – С ума, что ли, сошел? Ничего страшного, ерунда. Иди. Пока.
И улыбнулась в темноте.
Но после того раза, в поезде, когда они оказались в гостинице (полная романтика для тех лет), и не просто в гостинице, а в гостинице цирка, под окнами по утрам выгуливали пантеру, но он этого так и не увидел, потому что дрых по утрам, и она ела клубнику со сливками огромными тарелками, вот там все было по-другому, хуже, дольше, бессмысленней, там было душно, жарко, и он никак не мог понять, в чем дело, пока она не сказала:
– Слушай, я так больше не могу. Мне не хочется. Во-первых, мама дала мне таблетки, хорошие, немецкие, но меня от них сильно тошнит. Во-вторых, меня уже тошнит от клубники со сливками. В-третьих, я больше не хочу тут сидеть целыми днями. Я хочу гулять. Я хочу в Лавру. Я хочу на Андреевский спуск. Я хочу во Владимирский храм. Я все уже про них прочитала. Я хочу туда. Я хочу в ресторан. И я очень не хочу, чтобы меня затошнило от тебя… А меня уже начинает. Давай перерыв, а?
И он обиделся, а потом засмеялся, и они стали много гулять, уставать, она приходила и отрубалась за пять минут, только успев сказать последнее «прости», перерыв затянулся, но и большой перерыв им не очень помог.
В общем, в Киеве было все хорошо, кроме этого, хотя он планировал вообще никуда не выходить из гостиницы, максимум два-три раза, но таблетки, и ее неутомимая любознательность, и что-то еще – не поспособствовали его счастью.
Напротив.
Хотя счастья все равно было много. Ужасно много. До безумия много.
– Зачем же я их ела-то в таком количестве? – неприятно удивилась Лиза, собирая вещи. – Они же вредные небось, гормональные.
И к проблеме таблеток они больше никогда не возвращались.
* * *
Подходя к дому, где-то в районе Шмитовского проезда, Лева засмотрелся на женщину с коляской (с сидячей, для больших, Женька в такой ездил лет до трех) и вдруг понял, что о Даше он почему-то все время думает тоже как о девственнице. Хотя уж она-то девственницей быть никак не может, по определению.
То есть ход мысли у него примерно такой: а были у нее мужчины или нет? Потому что по ее повадке, по походке, по манере разговаривать, совершенно детской, по взгляду, по рукам, как они машут в воздухе, когда она увлекается, – определить совершенно невозможно.
То есть ход мысли выражался таким тупым образом: Даша – засмотрелся – задумался – подумал: а были ли у нее мужчины? Вообще хоть какие-то? Уж не девственница ли…
И осекался: ты о чем? Ну нельзя быть таким тупым! Какая девственница!
Читать дальше