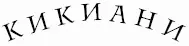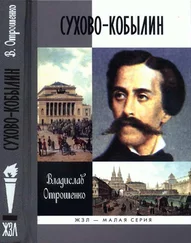Теперь этой тростью из китового уса он с деликатной настойчивостью отодвигает в сторонку, подальше от своего лакированного, парадно сверкающего штиблета ногу дядюшки Александра, не обращая ни малейшего внимания на решительный жест фотографа, как не обращает внимания на этот жест и дядюшка Александр, неожиданно повернувший голову, чтобы высказать дядюшке Нестеру как можно учтивей и дружелюбней свои резоны: во-первых, его теснит Порфирий, тяжело качающийся из стороны в сторону и невольно толкающий всех вокруг, поскольку у него на руках ерзает и капризно выгибается дядюшка Измаил, растревоженный тем, что у него отобрали хоть и затупленный, но все же опасный в руках слабоумного старца-младенца кирасирский тесак (кто его снял со стены и дал Измаилу, Аннушка так и не выяснила); во-вторых, у дядюшки Нестера достаточно места слева, чтоб отодвинуться от дядюшки Александра, если уж он не может позволить своему несомненно изящному и даже восхитительному штиблету соседствовать с грубым ботинком дядюшки Александра; а в-третьих, и это самое главное, дядюшка Нестер не должен воображать, что его героическое увечье, которого, впрочем, по мнению дядюшки Александра, можно было бы избежать, если бы, скажем, дядюшка Нестер не находил особого удовольствия в том, чтобы ухарски красоваться в картинных позах на всевозможных насыпях, холмиках и прочих живописных возвышениях, – что это впечатляющее увечье дает ему право назойливо тыкать своей диковинной и – спору нет – необходимой ему тростью в ногу дядюшки Александра, да к тому же еще, как известно дядюшке Нестеру, в ногу вовсе не настоящую, а любовно и мастерски изготовленную Альфредом фон Винклером в Люксембурге взамен проворной, легкой и радостно неощущаемой, которую он «нечаянно истратил в пятнадцатом году на Кавказском театре», при в общем-то будничных обстоятельствах, наводя виадуки через ущелье для малозначительного маневра заносчивых егерей. Не замечает знака, поданного фотографом, и дядюшка Павел, решивший все ж таки вытащить руку из кармана, но так и не успевший положить ее на плечо Серафиму, и дядюшка Иося, всецело отдавшийся единоборству со своим неотступным мучителем – упругим, как недозрелый лимон (и уже полураздавленным во рту), зевком. Словом, снимок получился настолько стихийным, что если бы на его обороте не фокусничал веселый франт в полосатом костюме и штучной жилетке, развернувший над головою летучим веером семь изящно начертанных букв:
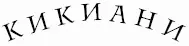
то можно б было подумать, что он поспешно сработан Жаком и Клодом, не привыкшими грубо вмешиваться в «l'ordre naturel des choses» [2], как они объясняли Аннушке, умело, хотя и чересчур театрально изображая оскорбленных в высоких чувствах художников и нарочно переходя на французский, когда она указывала на явные промахи в их «improvisation eclatante» [3], пытаясь ограничить плату за нее одним лишь задатком. Кикиани, придерживавшийся другого правила, справедливо полагавший, что «l'ordre naturel des choses» не всегда производит благоприятное впечатление на придирчивого заказчика, каким была Аннушка, менявшая семейных светописпев с необычайным увлечением, пока однажды не остановилась на Кикиани, не мог опуститься в своем кропотливом искусстве до неряшливой торопливости, свойственной Жаку и Клоду. И если он все ж таки до нее опустился, то, вероятно, от отчаяния, вызванного тем, что к стройной и в какой-то момент уже завершенной, на его прихотливый взгляд, картине примазывались, предусмотрительно запасаясь скамеечками, стульями, подставками, все новые и новые персонажи, неожиданно изъявлявшие желание увековечить свою праздничную наружность, ступив на территорию сказочного государства, светозарного острова, готового стать минуту спустя оплотом восхитительной неподвижности в океане изменчивых образов и текучего времени.
Остановить нагромождение второстепенных лиц Кикиани мог одним только способом – вскинуть руку и спешно снять крышку с объектива, улучив для этого, быть может, не самый подходящий момент. Такое решение, во всяком случае, избавляло его от необходимости пререкаться с Аннушкой, по распоряжению которой к рождественской фотосъемке допускались не только невестки и жены дядюшек, не только их забубённые шурины и мелкотравчатые зятья, но и бесчисленные свойственники, что таскались повсюду за дядюшкой Порфирием, опрометчиво приваженные им еще в дни его бесшабашной юности, когда он охотно устраивал для них баснословные кутежи, блистающие разнообразием брашен, щедро одарял их – кого жеребенком, кого дербентским ковром, кого смушковой шапкой, не подозревая, что в старости, перед кончиной, тщательно обобранный ими, будет всерьез, а не в шутку, как раньше, подумывать о шарманке, то есть о том, чтоб пуститься, как он мечтательно говаривал во хмелю во времена упоительного изобилия, с сумою, шарманкою и плясуном Измаилом по дворам.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу