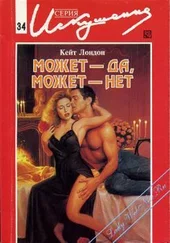Сильво не хотел рассказывать, что он предпринял, даже под серьезным нажимом. Да и времени у меня оставалось немного — меня переместили.
Цепи на руки, намек надзирателя о близящейся амнистии, и в путь. У Сильво на глаза накатились слезы.
Позже он меня выдал — это я в любом случае принимал в расчет. Из одиночки для умирающих в новом выстроенном отделении для заключенных в госпитале он перед смертью послал мне через все барьеры листочек с просьбой, чтобы я его перед концом простил. На кровати нашли привязанную тряпочку с надписью (химическим карандашом): «Здесь умер Сильво Подкрайшек».
Новое окружение, опять одни больные хотя и в обычном отделении, но с разрешением лежать днем, несколько новых знакомств, несколько старых знакомых.
Так кружатся планеты, то приближаясь друг к другу, то отдаляясь. Повторения.
Но здесь мне повезло очень быстро установить связь с внешним миром. У одного из заключенных был свояк, надзиратель корпуса, приносивший ему колбасу, копчености и сухари, иногда даже бутылку вина. Надзиратель во время войны был партизаном, а его свояк — домобранцем. Во время войны домобранец защищал партизана, некоторое время скрывая его у себя дома (во время карательных операций), а после войны партизан — домобранца, так что того даже не арестовали. Сейчас этот сидел за какие-то растраты. Мы быстро узнали, кто все-таки стукач.
Меня несколько раз допрашивали, но не было ничего изнурительного. Скорее я назвал бы это прощупыванием пульса. О том времени пусть говорят отрывки из тайком пронесенных, еще сохранившихся писем.
* * *
«Со мной также 18-летний паренек, которому по его виду трудно дать больше 12. Бедняга гордится различными формами своего туберкулеза — он напоминает мне Тиби [58] От англ. Т.В.
из „Тупика“ Кингсли. Он хочет быть предельно мужественным, настоящим каторжником, жестким, острым на язык. Господь послал его нам, чтобы мы не забывали, что такое человеческие слезы, ведь из-за любой ерунды он может заплакать. Ему дали семь лет за то, что „помогал другу при вооруженном нападении на одного их приятеля“, они только его ранили в ноги. И бог знает, что там было еще. Я не знаю, почему я балую малого, у которого со всеми его недостатками к тому же не особо приятная наружность, грубый голос и склонность к восторженности. Он страшно ругается и дико жестикулирует, а сразу после этого привяжет склянку к резинке от трусов и играет с ней. Кроме меня, которого он ценит за насмешливое слово, он уважает еще старого кочегара-взломщика, сидевшего при всех режимах и никогда не сознающегося, сколько отсидел. Единственное, что он сказал полицаю: „Когда вы будете жандармом хотя бы половину того времени, что я — арестант, тогда сможете пасть разевать, а теперь исчезните!“».
«Яростно играем в шашки, шахматы вышли из моды. Мы разделились на две партии, напряжение между которыми увеличивается. Ширится пропаганда, появляется уже настоящая вражда, страсти разгораются, честолюбие пылает и дрожит, комнату охватывает психоз. Здесь можно изучать до последней точки те же самые явления, те же самые мотивы, те же самые хитросплетения, как в политической жизни на воле, только в более наглядной форме. Я сам иногда руковожу яростными схватками и смотрю, как кусочек дерева становится важным предметом человеческих страстей, как человеческое чувство хватается за эти игровые фигурки, как в жизни появляется новая привлекательность, новый важный элемент. Так мяч оказывается в центре переживаний тысячеглавых толп на футбольных стадионах. Так в Риме игры, circenses [59] Скачки, бега, игры, происходившие в Цирке (лат.).
, овладевали страстями масс и даже разделяли их на партии в одежде разного цвета. Как мы здесь в разгаре страстей забываем о тюрьме, так римская толпа забывала о голоде и страхе перед императором».
«Кажется мне, что моя система лечения несколько расшатана. Я простудился и адски кашляю. Почему я на это никак не рассчитывал: из-за каверн я запретил себе дышать верхней частью легких, дышу только диафрагмой, чтобы верх легких сохранять недвижимым. При этом не должно быть ни одного быстрого движения, и кашля тоже».
«Я узнал отличный анекдот о попугае и обезьяне. Солнечное весеннее воскресное утро в Берлине 1945 года. В роскошном дворце попугай и обезьяна остались одни дома, хозяева уехали за город. Этим двоим было скучно, и они разбили китайскую вазу, весь фарфор, порвали занавески, покатались вверх-вниз на жалюзи, пока те еще держались, переловили всех рыбок в аквариуме, открыли воду в ванной и на кухне, накрасились косметикой и надушились духами, изображали из себя хозяев на супружеской постели — но потом идеи у них иссякли. Обезьяна и говорит: „А я знаю одну новую игру!“ Попугай: „Какую?“ Обезьяна: „Погоди, увидишь! — Взяла платок и завязала попугаю глаза. — Так, — сказала она, — теперь я тебя раскручу… а потом…“ В это время прилетели американские бомбардировщики и сбросили ковром бомбы. Из развалин вылезает только попугай, весь без перьев, отряхивается и с завязанными глазами сердито кричит: „Твою мать, эта твоя новая игра!“».
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)