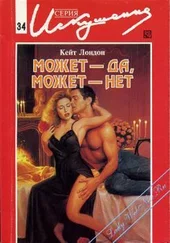Полное отчуждение, в котором человек начинает чувствовать слабости и отличия своего творения. Сегодня глядя на те стихотворения, я никак не пойму, достойны ли они прочтения или нет, знаю только то, что это кусочек какой-то жизни.
«Перед первой весенней грозою / в застенках заплакал юг — / и грозу сменил тихий вечер, / лишь филина слышится звук. / Говорит сосед мой недужный: / „Кого птица дрянная зовет, / прожил я семь зим в этих стенах, / а весной меня черт возьмет. / Мне ружье бы сюда резное — / клюв заткнул ему быстро б я“. / С головой он ушел в одеяло, / лишь макушка глядит из тряпья».
«Прояснилось, фасад тюремный / смотрит льдисто, мерзло на нас. / В кандалах мы ждем перед входом, / некий план отправляет нас в путь. / Через ближний сад по тропинке / идет женщина — кровь и плоть, / и качает бедрами. Будто / в прозрачной одежде она. / Все глаза каторжан устремились к ней. / Жгучий голос смертной тяги / и огонь, на льду вскипавший, / вожделенье смертоносно / в зэке, до смерти уставшем».
«Мы приветствуем дух / каторжанина расстрелянного. / Зов вольных далей / был сильнее / всех запоров и стен, / заграждений, ружей, колючек. / Мы приветствуем дух / коллеги нашего без изъяна! / Его гордость / была сильнее, / чем нужда, нажим и угроза, / его храбрость / была ему светочем, / что указывал путь / сквозь тьму и ужас. / Он учил палачей уваженью / к свободному духу в плененном теле. / Почтим же память / поющего узника! / В несчастье пел он, / свистел, смеялся, / пусть камера, карцер / или транспорт — / силой души своей / делился с нами. / Поцелуем же сердце / безгрешное, детское / человека простого, / что всего не знал, но — / чувствовал всё!»
«Вспомни, тот, кто возьмет газеты, / Франции, ныне поющей, славу, / что прошло лишь четыре года / со времен, когда журналист получил бы пулю. / На Монмартре мельницы ныне открыты, / разрешены Ренуар и Утрилло, / Сартра уж без омерзенья помянешь / и скажешь смело: Париж мне по нраву! / Вспомни и то, что в тюрьме лежим мы, / те, что события опередили, — / связи имели с Рембо и Вийоном, / это агенты французские оба».
«Четверо мужчин ждут смерть-цыганку, / им чахотка похоть разжигала, / в диких снах их ловят на приманку, / кровь у них от страсти запылала. / Говорит первый: Мне бы лишь разик насадить бабу, / хоть трехгрошовую замарашку! / Второй добавляет: Какую угодно, хоть дрянь и жабу, / только б ей снять штаны и рубашку! Третий хрипит: Как бы мне кровушку не иссушило / от этих призраков и грязных снов! / Четвертый молчит. В нем животная сила — / в чем душа держится, / сам с собой тешится / вновь и вновь!»
«Летом всё весело, живо, / теплые дни — и сладко / увидеть уж смерть незлобивой. / В жаркие дни полумертво лежим мы, / смотрим, глаза закрывши, / картины, плывущие мимо. / Нас окатит истомой сладкой, / коль с пластинки до нас донесется / песня живая, с испанской загадкой. / В небо вздымается синий мост, / идем по нему, глаза закрывши. / Первыми — те, кто уже на погост».
«Воспользуйся болью, / как машина пользуется огнем! / Не бойся боли значений, / и кораблю ведь / огонь не страшен в собственном чреве! / Слово останется чистым, / когда всё исчезнет».
В конце каждой книжечки по кругу надпись «Constanter et non trepide» [38] «Стойко и безбоязненно» (лат.).
, а в начале девиз по Полю Гогену: «Кто мы? Откуда мы пришли? Куда идем?» (По-французски это звучало для меня, как Гогеновы краски. «Qui sommes-nous? D’oú venons-nous? Oú allons-nous?» Это название, которое он дал своей необычной картине, сопровождало меня среди отзвуков голосов отшельников всех времен.)
Я вернулся в свое заточение — но прыгал бы от удовольствия, если бы уже тогда не обучился владеть всеми основными чувствами — как страхом, злостью и печалью, так и надеждой, симпатией и радостью. Каждое видимое чувство может открыть для тебя какую-нибудь проклятую дверь.
В то время осведомитель рассказал мне, что комиссар тюрьмы спросил его: «Вы хорошо знаете Левитана. Скажите, что вообще на него может подействовать? Одиночка — нет, голод — нет, даже болезнь — нет. Что вы думаете?»
Он будто бы ответил, что не знает; Левитан может сидеть на полу, смотреть перед собой и думать о своем, но из себя он не выходит.
Тогда я, скрытый под одеялом, писал следующую книгу, вначале было нечто подобное: «И если в отчаянье тупо застынешь, / ты блажь эту сразу же скинешь, / коль в памяти образы встанут, / чтоб в мертвенном времени не погиб ты, / пусть гложет червь гибкий / горькие раны! / Храни мечты, виденья и звуки, / все чары и му́ки / ночей бессонных, / разбитых ста мыслей мгновенных, хрупких, / а также надежду, что в огненной трубке / горит зеленым!» — «Беги, ты же неволи печатью / в средоточие счастья / не заклеймен! / Из мертвых воскресшие стылы и мерзки, / безжалостны, дерзки, / непостижимых имен!» — Эту мысль я посвящаю и возможному читателю этих моих записок и ею завершаю рассказ о контрабанде двух книжечек. От этих проклятых стихов у меня заболели кишки.
Читать дальше
![Витомил Зупан Левитан [Роман, а может, и нет] обложка книги](/books/32925/vitomil-zupan-levitan-roman-a-mozhet-i-net-cover.webp)