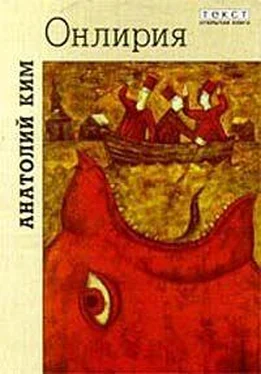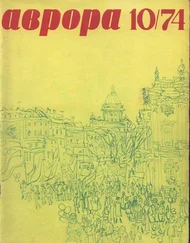Это было очень и очень странно, неисповедимо: смотреть на улицу через окно квартиры в светящийся листвою деревьев летний день, а самому находиться в своем сыром, наполненном скользкими внутренностями теле и видеть через моргающие люки глаз колеблемую ветром листву на тополях и прыгающих по веткам воробьев. Тот сырой мешок тела, в котором я обретался, был безнадежно плох, как и все прочие подобные мешки на свете, – способен был, того и гляди, в любой момент порваться, и его содержимое могло вывалиться в прореху… Я постепенно до конца постигал все уязвимое несовершенство своего обиталища, всю жалкую, безнадежную его устремленность к какому-то счастью, блаженству…
Моей жены четыре дня не было дома, ночевала неизвестно где, а я ждал ее, выглядывая из своего телесного мешка, со всех сторон окруженный влажной парной тканью мяса, находясь вблизи дерьма своего и внутри потока собственной алой крови – пленник тщеты своей и беспомощный раб собственных вожделений.
…На пятый день я вышел из своего тела и, прежде чем покинуть его, внимательно посмотрел сверху на то, что лежало небольшой кучкой на полу под окном, возле радиатора водяного отопления. Мое тельце, бедный мой вонючий мешок, валялось, откинув руку, в которой была зажата орхидея… Этим днем жена наконец появилась дома, но всего на час – чтобы собрать в чемодан свои вещи. Когда она вновь ушла, так и не соизволив ответить ни на один из моих вопросов, я опустился на пол там, где стоял, и вытянулся, лежа на спине. Тут и появился усатый Келим, держа в руке прозрачную пластиковую коробочку с запечатанной в ней орхидеей. Он снял с головы огромную кепку, какую любят носить пожилые кавказцы, положил ее на стол рядом с цветком и уселся в кресло.
– Жизнь твоя здесь, в этом мире, закончилась, – сказал он, со скучающим видом осматривая мою ужасную комнату. – Я пришел, чтобы переселить тебя в другой мир.
– А далеко ли это отсюда? – спросил я. – Сколько километров примерно?
– Нет, так нельзя считать, дорогой, – был ответ, – километры тут ни при чем.
Другой мир находится здесь, – и он обвел рукою вокруг себя, – но просто он другой и не касается этого.
– А какой он? Можно его представить, пока я еще не умер?
– Почему же нельзя… Можно. Это как слова… Об этом было уже сказано: в начале было слово.
– Но почему мне так страшно, Келим? – далее спрашивал я. – И этот сырой мешок, в котором я нахожусь, – почему его так жалко?
– Потому что в другом мире, куда тебе предстоит переселиться, мой дорогой, ты никого не сможешь любить. Там нет любви. Одни только слова…
– Но ведь никакой разницы, Келим! – вскричал я. – Помилуй! В этой жизни все почти то же самое! Здесь тоже каждый из нас всего лишь какое-нибудь пустое, ничего не значащее слово. Однажды лишь прозвучит – а далее тишина…
– Нет, – отвечал Келим, – не совсем то же самое. Пустота мира, которую ты ощущаешь здесь, это еще не сама пустота, а всего лишь предварительное место заключения пустоты. За нею последует нечто гораздо более великое. Отсюда и твой ужас перед ним.
– Значит ли это, что любовь, от которой я сейчас умираю, отсутствует там, в этой великой пустоте?
– Я уже сказал… Нет ее там, потому что нет сырых тел, нет другого вещества, кроме слова. И нет женской красоты, рождающей мужскую любовь, – также и наоборот.
– Значит, ты обещаешь мир, в котором больше не будет любви?
– Не будет.
– Что надо сделать, чтобы скорее оказаться там?
– Возьми орхидею, – сказал усатый Келим и протянул мне цветок. – Бери-бери, дэнги нэ нада, – произнес он, пародируя кавказский акцент.
И как только я принял от Келима пластиковую коробочку с орхидеей, во мне началось движение, которое постепенно освобождало меня от скованности жизнью. Это движение, превратившееся в чувство, делало меня летающим и бестелесным, оставляющим навсегда все беспомощные тревоги прежнего бытия. И я с жалостью и скорбью в последний раз оглянулся на бедное тело, лежавшее на полу; в откинутой руке моей тускло блестела прозрачная коробочка с лилово-белым цветком внутри.
И вот упоение небес и восторг земли, не знающих справедливости, сочетающих прозрачную голубизну и тяжелую твердь в едином мироволении! Освобожденная от бренных узилищ, душа моя еще не ведает своих новых возможностей, и ей открыта лишь безмерная, лучезарная устремленность к нескончаемому полету.
Еще мгновение – и я навечно забуду все то, что было со мною в отошедшей жизни. Миллионы цветочных сияющих ликов, каждый из которых – слово, также состоящее из слов-лепестков, и слов-тычинок, и слов – золотистых пылинок, все они ждут моего слияния с ними и полного забвения земной жизни и несчастной моей любви.
Читать дальше