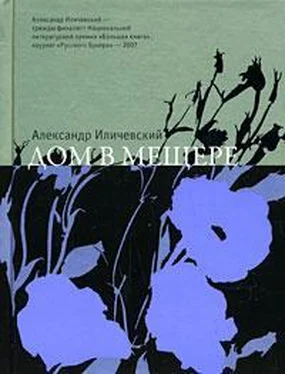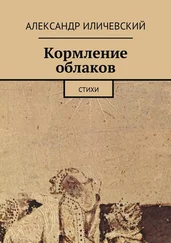Страница только началась, но Катя поняла, что ей становится скучно и, не удержавшись, скользнула глазами в сюжетных поисках дальше:
«Маша жила в угловом доме на пересечении бульвара и Петровки. Она жила в нем в коммуналке с бабушкой, в последнем этаже. Отец остался на поселении под Челябинском. Мать умерла в Хабаровске в сорок девятом. Отец писал, что в Москву не вернется. В начале апреля мы ходили на Воздвиженку – забирать документы по реабилитации ее родителей. Маша потом рассказывала: вернувшись, она протянула конверт Элеоноре Михайловне. Та его тут же изорвала и сожгла в пепельнице. Горящая бумага, корежась, вывалилась на стол и подпалила скатерть. Бабушка сидела неподвижно. Скатерть после пришлось заштопать крючком, стянув обрезанные края кружевной ромашкой…
С бульвара я видел окна их двух комнат. Когда гасли оба, ждать мне оставалось мгновенье. Бабушка-фрейлина, из «невыясненных», была своенравна, но парадоксально демократична, и следовательно, вполне нравственно прогрессивна. Уложив ее спать, но не раньше, Маша была свободна. Вовсю шла подготовка к летней сессии, и днем нам не хватало минутных встреч в универ-…»
Она делает вылазку, чтобы заварить себе еще кофе, и срочно забирается в постель обратно. Судя по нумерации, следующие пять страниц выпали, и Катя с некоторой досадой, наскоро пролистав весь опус Стефанова, смиряется с пропуском:
«Да, я вырос и жил в городе, в котором любят гулять по бульварам… Весной их дорожки посыпают крошкой розового мрамора. Еще не затертые подошвами, грани крупинок породы вспыхивают где-то у самых глаз пешеходов, там и сям мигая под изумрудными брызгами раскрывшихся почек. Этот кремнистый салют, перепархивая по конусу зрения, растворяется в конце аллеи – там, где фигуры людей, перемещаясь в глубь солнечной перспективы, вдруг охватываются лохматыми охапками света и, вспыхнув, мгновенно чернеют и исчезают. Они исчезают там, где небесная колея аллеи вливается в запруду, опрокинутую на площадь. Площади – звенья цепочки, составленной бульварами…»
Катя поняла, что старика, как всегда, повлекло еще на один круг по новой, и перестала читать. Пошла в ванную комнату, пустила воду, чтобы залечь – согреться. Разделась и зябко посмотрелась в зеркало.
Подобрала волосы и, зачерпнув пенную пригоршню, плеснула в отражение…
В ванной Катя решила досмотреть записки Стефанова и неожиданно наткнулась на интересное. Это была попытка рассказа. Пришлось подбавить горячей. Алексей Васильевич, предусмотрительно извиняясь за неловкую и неуместную художественность этого отрывка, писал:
«По некоторым причинам, касающимся моих отношений с пространством, я часто оказывался на грани бездомности. Случалось, когда подпирало, я выбегал из квартиры, как из пожара, и долго, не в силах прийти в себя, слонялся по городу. Это могло продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Тогда меня было бесполезно разыскивать. В такие загулы со мной происходили разные истории, иногда очень забавные. Вот одна из них.
Попутало меня однажды оказаться в метель на бульваре голодным.
Февраль. Стемнело еще вчера, и погода такая, что хороший хозяин… В общем, валит снег по колено, по горло, по разум. Ветер кроет наотмашь. Жить нельзя.
Ночь. Белый зрачок великана всматривается в город-соринку и ни черта не видит.
Четвертую ночь я ночую в подъездах. И сегодня мне не хочется возвращаться. Но я говорю себе: тебе надо домой хотя бы потому, что ты голоден…
Ночь. Никитский пуст. Серая река вспучивается напором темени и наваливается на грудь.
Ночь. Ветер норовит ее опрокинуть и ворочает что есть силы.
Я бреду по бульвару. Меня швыряет, как мусор.
Мне нужно к метро – позвонить. Есть хочется так, что и не хочется, но ослаб, и надо срочно что-нибудь съесть. Но прежде я должен дозвониться.
Ночь будто в брюхе мертвой рыбы. Хлопья мглы – чешуя – порхают, кружатся, бесятся. Свет фонарей едва продирается между их толкотней, словно творог, откинутый на марлю.
Ночь. Голодно так, что ноги чужие и в висках пищат мыши.
По бульвару бреду ванькой-встанькой… И ни разу ничком, все навзничь.
Зима, не зима, но ночь – будоражит своим дыханием снежных духов. Не хочется вставать, еще раз упав. Но духи гудят и топочут по лицу, и становится страшно…
Наконец площадь. На том конце светится кинотеатр. Еще теплый манекен в разбитой витрине. Осколок вкроился в череп и косо торчит, как парус. Снег захлестывает и тает на виске неоновой бледной кровью.
Читать дальше