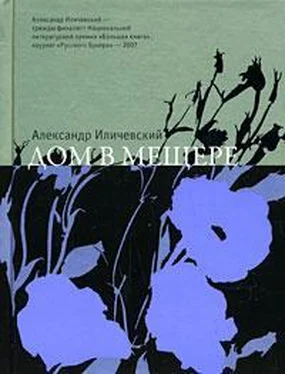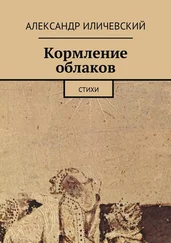Внезапное изменение облика Кортеза показалось Кате столь же приятным, сколь и необъяснимым, но приятностью своей отложило ее удивление.
Услышанное сначала ее поразило, потом смутило. Предложение Кортеза своей тревожной заманчивостью, словно ее приглашали сделать шаг к полному вспоминанию предыдущего воплощения, затрудняло осознание возможности осуществить тайну…
Наконец, вняв предложенью Кортеза, Катя не поверила удаче: жгучему ощущению, что это то, ради чего она готова на все.
Не столько для виду, сколько чтобы оправиться от потрясения, она попросила дать ей время решиться.
Вечером Катя сообщила Глебу, что у нее болит голова и что ей надо бы прогуляться. Одной.
Она дошла до метро, вернулась обратно и снова направилась к метро.
У ларька к ней обратился пьяный человек. Он был пьян до немоты, но уверенно, как капитан при качке, держался за равновесие своим исполненным достоинства видом.
Она вручила ему десятку и купила сигареты.
У человека была роскошная серебряная шевелюра. Покачиваясь, он невысоко понес ее в сторону от ларька. Как фонарь, как светоч.
Спустилась в подземный переход и со второго жетона дозвонилась к Кортезу. Связь после трех щелчков и писка неожиданно установилась – громко, ясно, в полную меру присутствия по ту сторону. Кортез тут же попросил ее подождать, и какое-то время она слушала квартет Майлса. Труба на мягких цыпочках терций пробиралась сквозь чарующую «Bag's Groove». Вдруг кто-то вскрикнул и разбилась посуда… Дребезг собираемых осколков вмешался в музыку. Стукнуло распахнувшееся окно. Прошелестел сквозняк. Всхлипнула женщина… Музыка стала тише. Осколки закончились. Катя подумала, что у нее больше нет жетонов. Майлс с новой ясностью вкрадчиво перешел на «Kind of Blue». Кто-то взял трубку и подышал… Отложил со стуком. В боковом зрении появился тот же пьяный старик. Он отчаянно жестикулировал – скрещивал руки и мотал головой. Катя отвела трубку и спросила, нет ли у него жетона. Он замахал руками, но потом, гримасничая, протянул. Раздался писк. Катя скормила автомату, как вороненку, жетон. Человек был в отчаянии. Он присел на корточки и обхватил свою большую голову руками. Подвалил мент и потянул его под мышки. Катя крикнула, чтобы милиционер не был грубым с пожилым человеком. Толпа хлынула от прибывшего поезда. Тут Кортез оказался у телефона. Извинился.
Держа пальцы крестиком, сообщила, что согласна.
На следующий день, стоя в проходной академического института, в одном из опустевших зданий которого арендовало площадь благотворительное предприятие Кортеза, пока дебил-охранник, зачем-то слюнявя шарик авторучки, выписывал ей пропуск, Катя поклялась себе, что справится.
Глебу решила ничего не говорить, чтобы не сглазить.
Новые сотрудники Кате странно напоминали очеловеченных зверей, чьей предыдущей жизнью была трюкаческая работа в цирке.
Они были почти немы и чрезвычайно, вплоть до ловкачества, исполнительны. Взаимопонимание и слаженность иногда превосходили возможности телепатии…
Чуть не во всех их действиях имелся придурковатый акцент эксцентрики. Обрывистые команды по нисходящей передавались вроссыпь и по цепочке сразу на четырех языках: английском, немецком, русском и на усеченной до простого взмаха и мановения жестовой фене; так – со свирепой молниеносностью – работает свора карманников: «щипач» кудрявит, «друг» пуляет, «бегун» сливает.
Царствовало повелительное наклоненье. Сослагательная и сложноподчиненная, рассудительная формы высказываний отсутствовали, как в жизни счастье.
Кортез, казалось, не принимал очевидного участия в работе офиса. Он был Наблюдателем в засаде обобщенного воображения своих подчиненных. Деятельность Кортеза, как фигуры умолчания, состояла в незримом, но влиятельнейшем присутствии. Имя его, надзирая, весомо и беззвучно слонялось в воздухе, целительно поражая мысли, как жестокий, но необходимый вакцинный вирус. На его особу, кроме как кивком исподтишка куда-то в сторону его кабинета, никогда, даже иносказательно, не ссылались. Если кому-то приходилось впечатывать или писать в бумагах его несложное имя, делалось это чуть не с высунутым от старания языком, с замиранием и тщательной – взад-вперед – буквальной сверкой…
Главные команды подавал, распределяя между менеджерами отделов, горбатый доктор Воронов. Он был главным на этой сложносоставной арене, где одновременно в нескольких ее секторах шла постановка разных, но связанных сюжетным перекрестьем номеров. Его вездесущая пронырливость, манера то и дело возникать на совершенно противоположных рубежах деятельности наводила оторопь на подчиненных и заставляла их всегда быть в напряженной готовности сполна ответствовать за свой участок труда.
Читать дальше