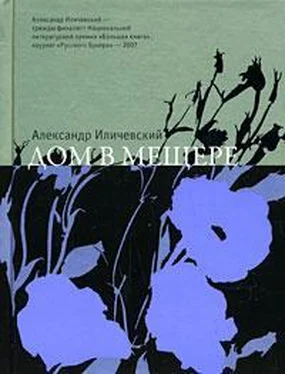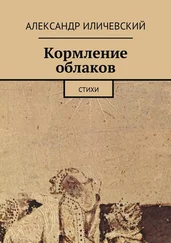Сын осевшего на поселении политзека, он вкалывал инженером на промысле алмазов, якшался с якутами и часто по выходным пропадал в тайге на охоте. Кажется, мог попасть белке в глаз, стреляя навскидку. Пронять его мог разве только медведь, вышедший на него с вилами. И тем не менее, пример родного дядьки пронзил его. Вопиющая мысль, что и он-таки медленно, но неотвратно помирает, уложила его на обе лопатки.
Возможно, обстоятельство, что умирающий его двоюродный дядя об ту пору оставался последним его старшим родственником вообще, и обусловило силу произведенного на него впечатления (родители его семь годков уже как почили). Возможно, что неотвратимость именно окончательного его сиротства и подвигла его на такие необыкновенные размышления. А возможно, и нет – что сумасшествие данного рода образовалось в нем спонтанно, сдвинутое, как лавина возгласом или кашлем, более или менее терпимой и в конце концов совсем неудивительной, хотя и печальной, мыслью.
Как бы там ни было, но событие бреда взорвалось. Целых два месяца пролежал он на диване, отвернувшись к стене, употребляя пищу только по настойчивому убежденью супруги. Там, на диване, ему и вошло окончательно в голову, что он, как и дядя, живет умирая, и ему захотелось поделиться с дядей таковым убеждением. Очутившись же в Доме и оглядевшись, он воспрянул и решился поступить нахрапом. Тем более, думал он, здешнее умирание при смерти ничем в смысле комфорта и отношения не отличается от тамошнего умирания при жизни, только все происходит честнее.
И он решил не лицемерить. Но опасаясь, что его не поймут, пришел к выводу, что действовать нужно резко и определенно – например, устроить здесь всем забастовку: мол, никуда я отсюда не пойду, что хотите со мной творите, а я здесь всенепременно останусь, если даже меня тут прямо возьмут и зарежут.
Выслушав чужого племянника, Кортез сообщил, что тот ошибался. Что его отлично здесь все понимают. Что ему совершенно не следовало сомневаться, а так прямо все и сказать. И что он, Кортез, сделает от него зависящее, чтобы племяннику в Доме было «уютно и превосходно».
Последнее вскипятившийся племянник не совсем понял, но понял, что никто его отсюда гнать уже больше не будет. Он присел на корточки, так как его так и не пригласили сесть, и обхватил руками голову от потрясения.
Кортез велел санитарам освободить и подготовить палату к еще одному новоселью, а также внести нового гостя в список.
Однажды этот странный племянник забрел к нам в гости – под предлогом сыграть в домино. Мы сразу сообщили, что в домино играть не умеем, и предложили выпить чаю, но вскоре об этом пожалели. Племянник, пылко согласившись, оказался неугомонным, пил стакан за стаканом, уничтожил всю заварку и сахар, а напившись, стал расспрашивать, кто здесь чем болеет. Я шутя ответил, что болен любовью, а Стефанов вообще уклонился, сказав, что желтухой. Племянник ржал в ответ, не унимался, говорил, что мы издеваемся, так как наверняка у нас какие-то страшные заболевания, и что он нам заочно завидует очень. Также поведал, что, когда умрет двоюродный дядя, попросит разрешения в память о нем переселиться в его палату. Мне было странно видеть, не слушая, этого здорового, размером с медведя, сибирского идиота, который обстоятельно рассуждал о таких глупостях.
Стефанов вскоре отвернулся к окну и больше на племянничка не смотрел.
Я часто гуляю по Дому. Обычно это выглядит как прогулка, но иногда и как настоящее приключенье. Случается, иное приключение проходит не совсем даром. Вчера, например, оно не прошло. В таких случаях я стараюсь делать выводы. Бывает, что они получаются неоднозначными. Как сейчас. Честно говоря, я вообще от вчерашнего никак не могу еще отойти. А начиналось все вроде бы безобидно.
Вчера днем из нашей палаты отправился я на второй этаж, миновал кастелянную, процедурную, красный уголок и сделал таким образом лишних сто тридцать семь шагов; зато встретил по дороге Катю.
Она шла куда-то и, улыбнувшись, пригласила глазами следовать за нею. У двери оглянулась, и я понял, что меня просят обождать.
Хотя в коридоре никого не было, но стоять в нем стоймя, непонятно чего ожидая перед неизвестной дверью, было столь же малоприятно, как бывает неприятно в городе торчать на открытом месте, подвергаясь беглым взглядам поглощенных своим ходом прохожих.
Вскоре, маясь перед дверью, я начинаю неодолимо мучиться тем, что за нею. Но вот что странно: я вдруг понимаю, что вовсе не непредставимость последнего составляет причину моих переживаний. И что, конечно, непредсказуемость – усеченный вариант непредставимости – совсем не имеет никакого отношения к моему волнению. Что за порогом, нисколько меня не беспокоит.
Читать дальше