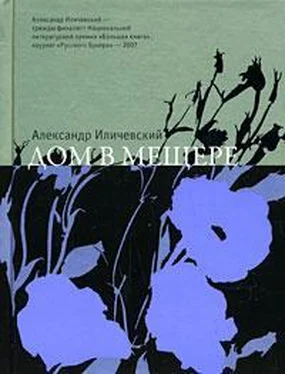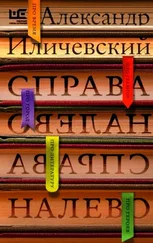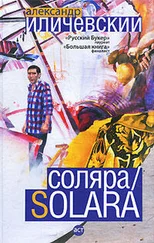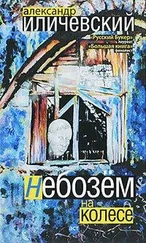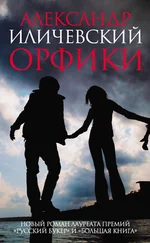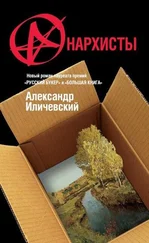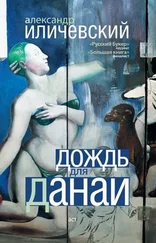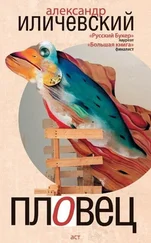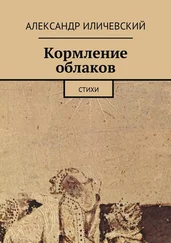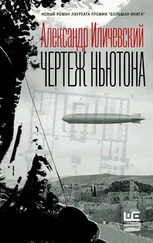Дело здесь не в голой искренности. Диалог – это неэкономная форма монолога, симулирующая обратное понимание. Мы же с ним разговариваем, как два сброшенных без парашюта парашютиста, которым до земли надо как-то скоротать время. Что бы он ни рассказал мне, это никак не может повлиять на приземление. В наших разговорах нет вороватости будущего времени, крадущего у настоящего для роста понимания. Приращение смысла здесь не занимает у себя самого. Мы со стариком не повязаны взаимной ангажированностью ответов, которая как раз и заправляет диалогом. Природа диалога в том, что он рождается с тем, чтобы, пожирая себя, длиться. Энергия его смыслов эгоистична: не порождая иного, она целиком уходит на воспроизводство – не времени, а длительности речи: какой смысл в перебрасывании – «горячей картошки», «гранаты с сорванной чекой» – «из уст в уста»? Отсюда – выхолащивание, охлаждение производимого. В диалоге нет многоточий как таковых – настоящих, не пунктуационных. У диалога нет конца, он не может быть оборван, поскольку стал произносим.
Мы же если что и сообщаем друг другу, то не требуем ответа в принципе, все это может быть прикончено в самом начале, равно как и не произнесено вообще. Мы говорим не потому, что произносим и слышимы, а потому, что сами себя слышим, чтобы удостовериться хотя бы. Мы не интересны друг другу в том смысле, в каком собеседники различны своей заинтересованностью в произнесении… Скорее, он говорит, а я слушаю, или я говорю, а он не слушает – ровно в той мере, в какой человек бредит собой до предела отчаяния. Любая наша фраза – не сказанная, но случайно услышанная, – это междометие, возглас, пусть и вынутый с шепотом, с криком, с голосом трезвым и внятным…
– Стефанов, а что вы думаете о любви?
– Я не хочу думать…
– Мне интересен животный ее аспект.
– Там нет ничего животного.
– Неправда. А как же то, что любовь – это смерть? Что красота порождает смерть желания? И нужно ли вообще бороться с низменностью в этом красивом деле? И если да, то как?
– Ну хорошо, допустим, человек в этом, интересующем вас смысле – животное. Допустим, он хочет перестать им быть, чтобы стать человеком. Некоторые знаете как поступают? Делают в простынях дыры и детей творят только через них. Вот вам и решение: ни вожделение глазом не допустимо, ни заблуждение прикосновений.
– Значит, проблема решается дисциплиной, да?
– Не дисциплиной в смысле воздержания, а устранением желания, переводом его в непредставимость, вБога.
– Ну хорошо, что же тогда делать, если желание становится воплощением одержимости?
– Три варианта: либо сдаться и кануть, либо раздвоиться и – любить одно, а спать другое, пусть и в одном существе. Что, впрочем, тоже без толку. Либо…
– Слишком просто, чтобы – верно.
– Согласен.
– Так что же вы думаете о любви?..
– О любви?..
– О смерти.
– Думать нельзя.
– Верить тоже.
– Вы любили?
– А вы убивали?
– Да. Себя.
– Смерть желания и желание смерти – их различение и выводит человека за пределы себя – в человека. Спросить бы у Диониса…
– То есть – у Эрота?
– Нет, Диониса. Эрот действует в начале, лишь при самой потере невинности, когда все свежо и только-только потеряло точный смысл непредставимости. Эрот, по сути, только змей, податель яблока, а после. после он превращается в беса прогресса, в своего племянника, Диониса. Последний как раз далее и заправляет всей этой нехитрой гностической лабораторией, в которой всего-то два выключателя: «родись-узнай», «умри-забудь».
– А кто он, собственно, такой – Дионис? Что горнего он происхождения – дело десятое, поскольку там, в эмпиреях, в смысле иерархий еще почище, чем в дольних. Там он такой же вертухай, как здесь санитары: своя политика, своя программа смерти. Что толку, если власть ему мало-мальская перепала – в области, что пониже пояса? Это, в конце концов, все равно как под трамвай попасть.
– Слишком уж вы рационально рассуждаете.
– О чем?
– О желании.
– О трамвае.
А иногда мне кажется, что нам со Стефановым разговаривать совершенно не о чем. Мало того что все наши разговоры – своего рода диалогические самозванцы, но и само их возникновение не обязано никакому внешнему позыву, у них нет цели. Но почему-то все-таки мы говорим.
В самом деле, ну о чем, казалось бы, нам разговаривать? Он старше меня в два с половиной раза, в бесконечность то есть, он ко мне – деление на ноль. В юности я был убежден, что чем старше человек, тем он лучше. Я не вкладывал в это «лучше» качественный оттенок: понятия ума, мудрости, но ощущал простую иерархичность в том смысле, что ничего общего не может быть у человека с ним самим предыдущим. Императив старшинства, основанный только на количественной оценке, признавался единственно верным. Это как в детстве – один, августовский, салабон – другому, декабрьскому: «А ну, холоп, дай царю место…» Действие возраста линейно увязывалось мною с прогрессом. Но вскоре я обнаружил, что если не думать, то расти не будешь, что думанье – как падение во сне – признак роста. Что удачное, чудом случившееся размышление набирает тебе очки, которым имя – минута. Что календарь здесь ни при чем. И далее – что только во сне мысль и возможна. И что думать – значит выпадать, спать, поскольку сон столь же невоспроизводим в своей потусторонности, как и мысль. Которая, случившись, умыкает человеку в довольствие кусочек вечности. Потом, подросши, с брезгливым удовлетворением обнаружил, что есть мужи с юношеской придурью и старцы с неряшливыми повадками подростков.
Читать дальше