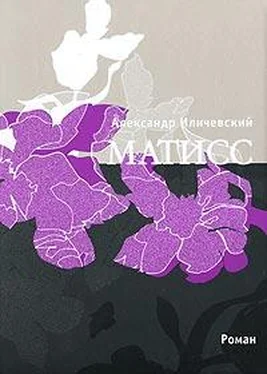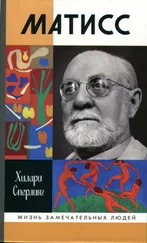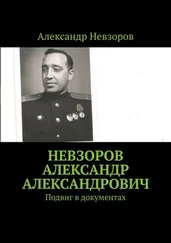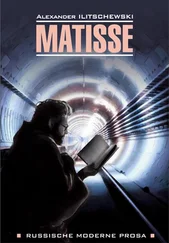LXV
Когда Королев тосковал, он старался глубже задумываться. Энергия рассуждения растрачивала тоску. А задумывался он почти всегда о главном – о времени. Только на время он мог положиться. Только оно могло стать скрепляющим веществом той конструкции, которая выстраивалась в этом городе для размещения его жизни. Размышление это было суровым делом.
Он пользовался различными предпосылками и отобрал из множества те, из которых выводились все остальные. Им оказался полный останов – «стоп машина», – приключившийся с его Родиной.
Локомотив уже сорвался в пропасть, а состав страны все еще летел, ускорялся инерцией свободного падения, втуне надеясь рывком перемахнуть параболу крушения. Этот динамический пример отложенной остановки замещался видом сплющенного луча, уткнувшегося в ничто после какой-то бесчувственной, но скорой даты. Здесь, конечно, все было сложнее и требовало размыслительной метафоры большего объема, чем фраза.
Обычно приходилось начинать с неприятного – с того, что мессианство – сколь убого и кроваво порой оно не реяло перед историей – нынче зарыто в землю. И все, кто хотят добыть его – гапоны.
На этом он не задерживался, только отдавая дань связности. Все это казалось более или менее простым, а вот непросто было, что остановка времени лямкой перетягивала дыханье.
Суммарно его траекторию можно было описать оглядкой – короткой хлесткой петлей, которой его осенило, что он куда-то просадил пятнадцать лет жизни; после чего его перетянуло еще, теперь затяжной: не он один просадил это время, – так как просаженным оно оказалось просто потому, что никуда и не шло.
И дело даже не в том, что оплот пуст и никакого плана, кроме воровского. Тут что-то с метафизикой пространства. Мало того, что оно распалось и опустело, оно к тому же переместилось внутрь. Снаружи Родины теперь нет. Зато она есть внутри. И давит.
Вместо пространства воцарилась бездомность. Можно за плечами собрать сколько угодно домов, но все они будут пришлыми, как раковины, подобранные отшельником. Здесь дело не в беззащитности; что-то гораздо большее, чем оставленность, посетило окрестность. Время отхлынуло в другое русло? – озадачивался Королев, и дальше его несло:
– В самом деле, почему иудеи нам братья? И мы, и они – единственные нации, чья ментальность насажена на тягу – вектор стремления к исходу: из рабства, из-под крепостничества, из-под власти чиновников – в мировую революцию, перестройку, куда угодно, взять Чехова – как прекрасен умный труд, какие сады будут цвести, не важно – только бы становилось лучше, только бы дом построить, пусть незримый, пусть ради этого полстраны удобрит буераки, неважно, – высокое дороже, мы не можем жить в сытой остановке, мы – не голландец: он не мечтает о том, чтобы завтра перестать быть голландским голландцем, он не мечтает вообще, ни о каком апокалипсисе речи быть не может, спасибо, его пиво и сыр – лучшие.
Королев, раскочегарившись мыслью, носился по городу. Проносился аллеями ВДНХ, по проспекту Мира, взбирался на Рижскую эстакаду – с нее бежал на Сущевку, Бутырку, Пресню, взлетал на Ваганьковский мост – и оттуда зависал над вагонным парком Белорусского вокзала, – над бесчисленными пучками рельсов, составов, хозяйственно-погрузочных платформ, россыпью оранжевых жилеток обходчиков. Едва ли не мистическое ощущение вызывал у него этот вид путевого скопленья: вся страна в продолжении рельс, грохоча, раскрывалась здесь перед ним, и он содрогался от веянья простора…
Ну да – что еще оставалось ему, кроме прогулок? Что еще могло создать область дома, воздушную родную улитку, в которую бы вписывалось понимание себя, – хотя бы совокупностью кинетических весов, приобретенных поворотами направо, налево, ломанной взгляда, – впрочем, не слишком путанной: в Москве нет точек, из которых бы зрение замешкалось в роскоши предпочтения. Москва то бесчувственно его обтекала бульварами, набережными, скверами, двориками за Трехсвятительскими переулками, за Солянкой, – то бросалась в лоб кривляющейся лошадью – не то пегасом, не то горбунком, привскакивала галопом пустырей, припускала иноходью новостроек – и все норовила отпечатать на сознании – подковой – взгляд, свой личный, сложный, грязный след, так похожий на покривившуюся карту – с зрачком Кремля, кривой радужкой реки, орбитами кольцевых, прорехами промзон, зеленями лесопарков. И вот этот клубок пешеходной моторики, уснащенный то яростью, то наслажденьем, то усталостью, – и составлял прозрачную раковину, намотанную чалмой траекто-рий на рака-отшельника. Иногда он должен был придумать себе цель перемещения, и он выдумывал, но всегда непредметную: то ему следовало раствориться, то напротив – вникнуть в дело, что он как раз и есть – мысль города. Он постигал бездомность. Внезапная инверсия выдернула из него нутро и вложила под язык Родину, как облатку яда…
Читать дальше