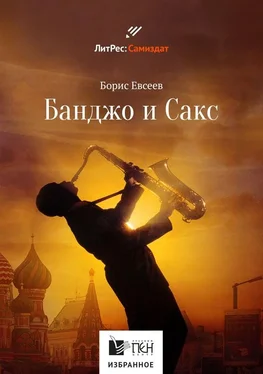Гашку сносило вправо, влево, её мотало и волокло меж реклам. За Гашкой, Бог знает на чем держась, летела синяя газовая косыночка, в 1982 году изготовленная в подпольном цеху города Пятигорска и долго носившаяся Гашкиной матерью по праздникам. Со стороны Гашка и впрямь походила на большую, с подпорченной механикой куклёху: пурпурные щёчки, глаза навыкате, старчески-младенческая – и опять же кукольная – застылость лица, угловатые движенья рук, словно бы отдельно от рук живущие ноги…
Гашка неслась, и Дурошлёп за ней, ясное дело, не поспевал. Лысый, задышливый, обслюнявившийся после первых же беговых движений, он пыхтел, кряхтел, подпукивал. Однако, тщетно: догнать Гашку было нельзя!
Гашка неслась и на ходу подскакивала. Так же подскакивали её мысли. Так примечталось вдруг Гашке, что на полученные двести баксов она купит Дурошлёпу ботинки или, может, сводит его к доктору.
А потом и вовсе перестанет звать Дурошлёпом, и они пойдут в кино, сядут, будут сидеть. Долго-долго, тихо-тихо, «без глупостей». Гашка Дурошлёпу вообще никогда ничего «такого» не позволяла. Вне работы она о «таком» никогда и не думала. Ей вообще нравилось чтоб всё было спокойно, тихо, «по-хорошему», и чтоб было много еды. Но сейчас ей нравилось только одно: бежать, лететь! Делать зигзаги! Забирать в сторону и возвращаться на свою асфальтовую дорожку. Она чуяла, что и крылец никаких – ни игрушечных, ни настоящих – не надо! Есть ведь вместо крыльев у неё длинные-предлинные ноги, которые почему-то так радуют старых, брюзгливых дядечек.
Вдруг стало на улице светлей: где-то за домами вставало невидимое солнце. Мысли девочки тут же перекувырнулись, но потом возвратились назад. «Херувимчики заводные, – думала Гашка. – Они тоже ведь не летают, они бегут! Да и настоящие-то херувимчики над землей скорей всего бегают. Как те цыплята по крыше курятника: желтенькие – туда! Хорошенькие – сюда! Быстро бегают, справно!»
Гашка бежала, и вокруг нее искрами рассыпался красный калёный смех. Для большего ещё смеху Гашка стала представлять всех ею покалеченных мужиков – в бане. Мужики с грязной мыльной пеной в головах и в ногах волосатых стояли, выстроившись в ряд, и вместо липких и гадких слов – какие одни только от них Гашка и слышала, – чего-то просили, канючили.
– А не канючь, не канючь! – Визжала бегущая Гашка, и била волосатых по головам пустой шайкой, и радовалась свисту горячей банной воды, грому железа, запаху мыла, а потом, вдруг переменившись, кричала сурово, может всё тем же банным, а может другим мужикам, которые всё ещё где-то над чем-то смеялись:
– Ёх-х… Ёх-х… Я заставлю вас плакать, хорьки!
Отсвет солнца, блеснувшего за домами, ушел. Вновь стало пусто, темно. И от этого свобода в скалистом переулке оказалась вдруг никому не нужной, лишней. Потому что свобода в темноте – вообще не нужна. Да и невозможна она во тьме…
Никакая свобода и даром не нужна была Дурошлёпу. Ему нужна была только свобода в шагу и нужна была Га-ша. Ему не нравилось, что она забыла про него, далеко обогнала. Не нравилось, что он не способен сообразить, как надо позвать, чтобы Га-ша остановилась. «Га-ша, Га…», – сопливо заныл он.
Свобода медленно издыхать, свобода лишаться навсегда мужских способностей не нужна была и Фаддею Фомичу. Он от такой свободы выл, рвал её ногтями, зубами.
Гашка про свободу вообще ничего не знала. Ей нужно было только бежать, лететь! А это была уже вовсе не свобода. Это была просто потребность лёгкого и худого тела, была обязанность маленькой, сжавшейся в чёрный уголёк души.
Свобода осязать и лицезреть порок к отцу Георгию не имела никакого касательства. Он утвердился в этом немедленно, как только вступил в пустой, гранитный переулок с ложащимися на зелёное сукно бильярдистками, с волосатыми рокерами, противоестественно, а стало быть и предательски лобызающих друг друга.
«Грех посмеяния (со смехом значит со смертью)…»
«Грех любострастия…»
«Грех совращения чистых…» – перечислял с печалью священник.
Девочку Агафью (девяти с половиной лет, бездомную) отец Конопыхин увидал нежданно-негаданно: он как раз отводил взгляд от рекламных щитов и думал о нудятине и скучной тяжести, какие есть всегда в необузданной вольнице. Отец Георгий хотел крикнуть смеющейся Гашке, чтобы та немедля остановилась, хотел поднять руку, но отчего-то не смог, не оказалось сил. Он слышал, как смеялась Гашка, как она щёлкала языком и звонко плевала на мостовую, как выкрикивала несогласные с её смехом слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу