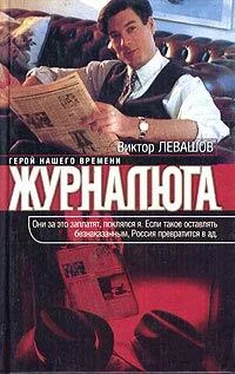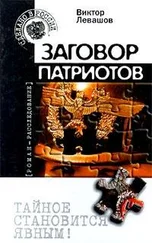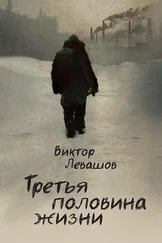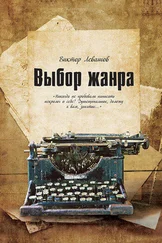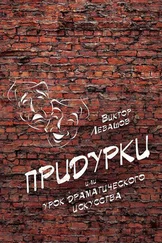— Региночка, детка, посмотри на меня.
Она посмотрела — хмуро, неприязненно:
— Ну?
— Лисичка. Хитрая, но вроде не злая. Если ее специально не злить, — оговорился Лозовский.
— А я? — полюбопытствовал Тюрин.
— Лысый барсук.
Заглянула Фаина, секретарша редакции, высокомерная от приближенности к начальству, как это у них, секретарш, заведено. Предупредила, не входя в загон:
— Летучка задерживается, у Альберта Николаевича очень важный посетитель.
— А кто она? — спросила Регина.
— Крыса!
— Шеф, у тебя сегодня мизантропическое настроение.
— Немного есть, — согласился Лозовский.
— Сейчас мы тебя развеселим, — пообещала Регина не предвещающим ничего хорошего тоном. — Начни, Петрович. Ты первый сунулся в это дело.
— Куда я совался? Никуда я не совался, — запротестовал Тюрин. — Я выполнял задание шефа.
— Какое здание? — не понял Лозовский.
— Ты сказал, что интервью Морозова смахивает на джинсу. Я понял это так, что ты хотел бы разобраться, что к чему. Или я неправильно понял?
— Правильно, Петрович. Ты правильно все понял.
На редакционном жаргоне джинсой называли скрытую рекламу и черный пиар. Несмотря на то, что это было запрещено законом о средствах массовой информации и осуждалось Союзом журналистов, было немало изданий, и очень известных, которые занимались джинсой почти открыто и даже поощряли своих журналистов к поиску заказчиков. Автору статьи оставляли до пятнадцати процентов валютной наличности, которой расплачивались за джинсу, а все остальное шло в «черную кассу» редакции — в так называемый рептильный фонд.
Рептильный фонд существовал и в «Российском курьере». Образовывался он из «нала» рекламодателей, из аренды и других источников, известных лишь Броверману. Среди этих источников была реклама по бартеру, благодаря которой в кабинетах «Курьера» стояли хорошие компьютеры, у всех журналистов были мобильные телефоны, а редакционные дамы красовались в одежде от дорогих фирм.
Броверман же рептильным фондом распоряжался.
Как и во всех изданиях, из него давали взятки чиновникам, от которых зависело создание для еженедельника режима наибольшего финансового благоприятствования, но основная часть шла на зарплату и на гонорары штатных и нештатных корреспондентов. По ведомости рядовые сотрудники «Курьера» получали по пять тысяч рублей в месяц, в действительности по пятьсот долларов. Зарплата редакторов отделов и ведущих обозревателей составляла семь тысяч, а в конвертах, которые каждый месяц в день получки раздавал Броверман, лежало по семьсот — восемьсот «зеленых». Точно так же за статью официально платили по триста рублей, а на самом деле до трехсот и даже до пятисот долларов, когда материал того стоил. Если же материал попадал в струю и способствовал принятию в Госдуме желательных для кого-то законов или препятствовал продвижению законов нежелательных, в рептильный фонд «Курьера» шел серьезный откат, и гонорары повышались до размеров, которых никто, кроме Бровермана, не знал.
Джинса как средство пополнения «черной кассы» «Российского курьера» была категорически запрещена с самого начала — еще в пору создания «Курьера», когда в молодой демократической России были живы иллюзии о возможности журналистской независимости и неподкупности. Потом джинсой брезговали по инерции, с какой старая дева, упустившая свое время, отвергает непристойные предложения. И оказалось, что эта позиция очень эффективна экономически. То, что публикации «Российского курьера» никогда не были заведомо заказными, способствовало укреплению репутации еженедельника как издания объективного и позволяло удерживать высокий рейтинг. Если джинсой соблазнялись сами журналисты и были уличены, следовал немедленный приказ об увольнении.
Каждый случай джинсы бурно обсуждался в редакции, вызывал негодование, но было у Лозовского подозрение, что негодование это примерно такое же, с каким добропорядочные дамы клеймят женщин легкого поведения, сами же втайне им завидуют. Единственным, в чьей искренности Лозовский не сомневался, был Тюрин. Ему очень нравилось быть своим среди профессиональных журналистов — людей со всеми человеческими слабостями, но в то же время существ особенных, знающих много слов и умеющих эти слова сопрягать так, что получались пусть не стихи, но все же не рапорт и не протокол. После двадцати лет милицейской службы в обстановке постоянной напряженности и взаимной подозрительности и после работы в банке, где тоже не расслабишься, Тюрин чувствовал себя так, словно бы наконец-то нашел свой дом. Джинсу он воспринимал как предательство, очень расстраивался, но в своем осуждении был непреклонен и никаких компромиссов не признавал.
Читать дальше