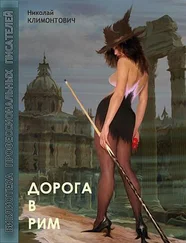Видишь, ее нет, шепнула она, здесь, справа, ее отрезали.
Впрочем, левая грудь у нее тоже была совсем незаметна, так что не велика оказалась потеря, но ее непосредственность несколько обескуражила меня, хорошо хоть она сообщила эту свою интимную тайну без пафоса, каковой не преминула бы припустить в таком случае всякая русская. Что ж, это было знаком скрепления любовного договора, и мы продолжали спускаться, хоть становилось все более полого. Не помню как, но, миновав какие-то каменные серые ворота, мы оказались на кладбище.
Это не было кладбище в нашем привычном смысле слова – возьмите хоть сановное Новодевичье, хоть плебейское Востряковское. Это было нагромождение склепов и часовен, миниатюрных мавзолеев и обелисков, перевитых стеблями жимолости, белого камня преимущественно; химерический парад архитектурных стилей – от саксонского и романского до мавританского, как будто кто-то специально перемешал культурные слои, накопленные веками, и свалил как попало. Выглядело все это торжественно и жутко. Каждый склеп, каждая могила порознь имела особую физиономию, и каких только деталей здесь было не рассмотреть: намеки на полукруглые или стрельчатые своды, каменные розетки, какие-то символические сакральные орнаменты, зигзаги и ромбы, гротески из птиц, зверей и растений, арки и колонны, резные фризы и лепные портики, стертые могучие ступени, ведущие никуда, таблички, таблички с надписями – в основном по-латыни – и гипсовые безмолвные ангелы, скорбно закатывавшие мертвые глаза. Но вместе с тем в этом хаосе чудился некий общий замысел, и мне стало страшно, когда я понял, что передо мной как бы вывернутый наизнанку великий замысел культуры. Священные камни Европы воочию лежали передо мной, но испытывал я не восторг и не благоговейный трепет, но боль.
Никакой памятник Парижа, знакомый по сотням фотографий, не сказал бы мне и сотой доли того, что нашептал этот город мертвых: вам, русским, никогда уж не быть с нами, никогда, никогда…
Показалось, Флоранс тянет меня за рукав, и мне почудилась, что она собирается забраться в один из склепов. У меня мелькнуло воспоминание о виденном некогда эротическом фильме, в котором героиня могла кончать только на кладбище. Я непроизвольно хотел было вырвать руку, но, оглянувшись, понял, что Флоранс нет.
Я пошел куда глаза глядят. И уже через пару минут спохватился, что непременно заблужусь в этом некрополе без нее, моей провожатой; оглянулся – нет, ее нигде не было. Пошел было назад, но вскоре совсем заплутал. Я пытался было окликнуть ее, но вовремя сообразил, что не могу же кричать в этом скорбном, торжественном, изнемогающем под грузом собственной последней красоты месте – к тому же кричать по-русски. Да и что бы я мог крикнуть! Как мне было позвать ее, мою добрую и безумную Флоранс, несбывшуюся мою бесплатную парижскую любовь…
Там, на монмартрском кладбище, я потерял ее навсегда, ведь даже номера телефона не догадался спросить. Оставшиеся три дня в Париже были грустны и пусты, мне, как ни глупо, захотелось домой, на свою нищую и грязноватую, тоскливо-бесхитростную родину. Я всякий день приходил на монмартрский холм, сидел то в одном, то в другом кафе, много пил, не божоле – крепкое, и по несколько раз на дню возвращался туда, к стенам Сакре-Кёр, – но ее и здесь, в сени храма чужой веры, не было.
Перед самым отлетом я заглянул внутрь церкви, но и церковь была пуста. В дешевом киоске я купил крохотное серебряное распятие с крохотной серебряной бляшкой, на которой оттиснута была святая
Женевьева, и с маленькими деревянными четками на цепочке. Отглатывая
“Мартель”, купленный во фри-шопе и откупоренный, едва взлетел самолет “Эр-Франс”, я перебирал четки в пальцах. И повторял на разные лады:
– Флоранс, Флоранс…
Впрочем, так же звали – во всяком случае, так она представилась, – миленькую стюардессу, с синей попки которой я весь перелет не сводил глаз.
ВРЕМЯ СБОРА АБРИКОСОВЫХ КОСТОЧЕК
Ляля никак не могла определиться в своих желаниях. Это было томительно, но он привык угождать молодой жене. Ляле было всего сорок, точнее – сорок два, и он старался быть хорошим мужем.
Впрочем, похоже, у него не было другого выхода. Уже.
Ляле был нужен дом на озере. Как Чайке. И он купил участок под
Чеховом, на берегу брошенного песчаного карьера, заполненного водой.
Ляля, экономист по ранней специальности, сказала, что будет вставать с рассветом и писать акварелью туман над спящей водой. Выходило, она полагала, вода будет спать дольше, чем она сама.
Читать дальше