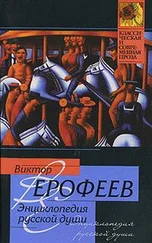— Папа! И-ка!
Он смотрит на меня с расплывом улыбки:
— Не и-ка, детка, а река. Скажи: река.
— И-ка!
— Река, Вадик, — говорит мама мягко.
— Какие бывают реки? — задумчиво спрашивает папа и сам отвечает: — Москва-река, Волга, Миссисипи, Янцзы, Яуза, Сретенка… то есть Неглинка, но она в трубах…
— И-ка! — кричу я. — И-ка!
Я близок к истерике. Я вижу желтый, как Янцзы, настороженный папин глаз. Но маму осеняет:
— Икра! Он хочет икры. Вадюшка, маленький, лапочка, хочет икорки? — сюсюкает мама, обращаясь ко мне в третьем лице, чего я не перевариваю и потому отвечаю ей холодно и иронично:
— Йез, сэл.
Я ловлю запах дикой икорной солености, я глохну от него, я возбуждаюсь, у меня набухают соски, я весь красен, меня трясет. Скорее! Скорее! Мама! Мамины неповоротливые руки никогда не кончат делать бутерброд… Ем, ем, задыхаясь, не пережевывая хлеба, в блаженстве давя языком липкие икринки, и — отпускает; можно жить дальше, и папа берет «Мойдодыра»…
Сбесившийся родственник, рыжебородый монстр прислал нам с Дона в подарок литровую банку зернистой отравы. Судьба наказала злодея не медля: его в тот же год переехал собственный «москвич», замешанный на тихой, как омут, икре, а я был оставлен мучиться и мучить других.
Банку съели. Я требовал еще. Мама сходила в магазин и купила. В те незабвенные времена гастрономии и культуры личности икра продавалась на каждом перекрестке, но она была не по карману моим родителями, и они попытались меня от нее отучить. Давали суррогаты. До сих пор содрогаюсь от простого сочетания слов: рыбий жир. Впоследствии пробовали пустить в ход искусственную. Пустая затея! Единственным заменителем могла служить паюсная. «Будешь канючить — выпорю!» — взорвался папа. Меня оставили без икры. На второй день «голодовки» начались обмороки, на третий — зарядили кровавые поносы, на четвертый — все тело покрылось красными волдырями и ночью мне беспрерывно снились пожары и демонстрации. Я стал заговариваться и задыхаться. На пятый — мама не выдержала, скормила мне несколько баночек, и все прекратилось.
Меня показывали врачам. Врачи беспомощно открещивались рецептами касторки. Правда, один профессор, звезда, заинтересовался моим случаем и предложил бедной маме положить меня в его клинику на всю жизнь для наблюдения. Помню, как мама блеснула на него глазами:
— Я не желаю, чтобы мой сын стал подопытной морской свиньей, — нервно сказала она (наверное, потом жалела об этих словах) и навсегда увела меня из медицинского мира.
Однажды пригласили гипнотизера в дымчатых очках. Он усыпил меня прикосновением ладони и во сне внушил мысль, что икра — пакость. Я проснулся веселый, со светлой верой в его слова, но что-то во мне было сильнее этой веры, и с отвращением, крича и содрогаясь, я снова принялся есть «пакость». Видя мои мучения, мама потребовала меня разгипнотизировать. Обиженный гипнотизер с неудовольствием сделал это за двойную плату.
Я познал свою норму: три баночки в 56,8 г, или шесть унций в день. Верхнего предела не существовало, причем впрок, на несколько дней вперед, наесться было невозможно. Папа больше не задевал за потолок; смоляные мамины волосы пахли гарью первых седин. Суеверная бабушка молилась за меня в православном храме Заступнице, но молитвы не возымели действия. Бабушка продала свою непарную бриллиантовую сережку с правого уха, отдала деньги родителям, вздохнула и умерла.
Я помню пионерское лето, линейки натощак, перед завтраком, походы, взвейтесь кострами… Я лежу в большой палате… синие ночи… пионервожатая тушит свет, строго наказывая нам не держать руки под одеялом… мы пионеры — дети рабочих… я жду, когда окончится бой подушками, когда запыхавшиеся взмыленные пацаны с перьями и пухом в волосах упадут, сраженные усталостью, на постели и засопят до утреннего горна… затем бесшумно лезу в тайник под матрац, достаю заветную баночку, привычными движениями вскрываю ее и начинаю жадно есть пальцем.
— Ты не знаешь, почему нельзя держать руки под одеялом? — вдруг отзывается сосед-тихоня.
От неожиданности я давлюсь, потом, откашлявшись, равнодушным голосом мямлю:
— Это не гегенично.
Я не знаю ни смысла, ни причины тарабарского слова.
— Почему не… А ты что ешь? Уй, дай мне тоже!
— Это лекарство, — страшным шепотом шепчу я.
— Ты что, болен?
— Болен. Только об этом никому, понял?
Наутро он предал меня вожатой, в восторге ябедничества приврав при этом, что я держал руки под одеялом. Меня тащат к толстой врачихе с брезгливыми пальцами. Та требует признаний, берет меня «на пушку», заставляет мерить температуру, показывать язык, спускать штаны. Я молча терплю ее пытку, за что получаю пять суток карантинного бокса и погружаюсь в серую влажную тоску простыней.
Читать дальше