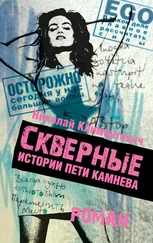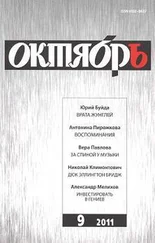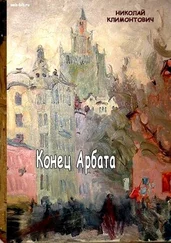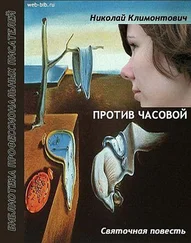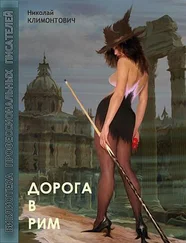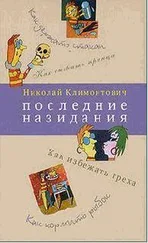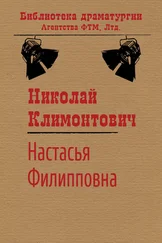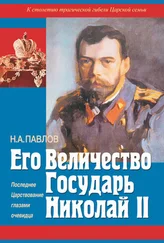Климонтович Николай - Последняя газета
Здесь есть возможность читать онлайн «Климонтович Николай - Последняя газета» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Последняя газета
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Последняя газета: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Последняя газета»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Последняя газета — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Последняя газета», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Да-да, мне повезло. Чувствуя себя готовым к бою, с облегченным мочевым пузырем, с чистыми руками и еще не совсем остывшим сердцем я еще раз подмигивал своему отражению: что ж, может, и действительно все сложилось не так уж плохо. А литература не убежит, куда она денется, литература. Сегодня я являюсь высокооплачиваемым сотрудником самой солидной из новых буржуазно-либеральных газет страны. По-старому, это почти то же самое, как если бы я сделался заведующим литературным отделом "Правды".
3
Тогда я говорил себе, что должен быть собран, а писательскую фанаберию стоит забыть на время. Ведь я торил новый для себя путь газетного литературного обозревателя на собственный страх и риск. Единственное, на что мне указали, так это на правило Газеты, согласно которому для появления любого материала на ее полосах требуется информационный повод.
Посему я завел себе календарь, где отмечал различные литературные даты: юбилеи российских и международных сочинителей, а то и просто круглые сроки, истекшие со дня появления в печати того или иного шедевра,- и поскольку в отличие от иных сфер бытия в литературе обычно ничего не случается, разве что помрет кто-нибудь, то каждую из этих дат при желании можно было считать достаточным информационным поводом для высказывания, что тоже мне было объяснено, хоть это и казалось в известной мере натяжкой. В конце концов, наивно полагал я, зачем обманывать себя и других, не легче ли, коли внятного повода не находится, просто публиковать то, что забавно и хорошо написано. Но, как я быстро усвоил, в отделе культуры старательно делали вид, что соблюдают эту установку начальства незыблемо, хоть и интерпретировали ее на собственный лад, исходя из соображений не столько удобства, но некоей стратегии, о наличии которой я простодушно не догадывался попервоначалу, еще ничего не зная о своего рода идеологии Иннокентия и окружавших его дам.
Первым делом, пустившись в это авантюрное плавание, я обошел маленькие книжные магазинчики – для знатоков, в которые и до того время от времени наведывался. Странное дело – при том, что книг печаталось все больше, рецензировать оказалось практически нечего. Не выдавать же за новинки трактат Марка Аврелия или сборник "Предуведомления" Дмитрия Александровича Пригова.
Позже-то я навострился, конечно, писать вообще о чем попало, что стали присылать мне из редакций и издательств, или вовсе о том, что листал перед сном дома или в полудреме в гамаке на даче, позаимствовав у жены или дочери. Но, пускаясь на дебют, я почитал свою новую миссию весьма ответственной и серьезной, пропорционально заработной плате, и, стремясь честно отрабатывать пайку, пытался отыскать хоть пару книг, о которых, по моему разумению, следовало бы оповестить читателей Газеты. Но не о дамских же романах и бульварных глянцевых книжонках писать рецензии: даже проработав с карандашом в руках несколько последних номеров "Книжного обозрения", я убедился, что и там все больше рекламируют здешнюю самопальную бульварщину.
Увы, я давно прошел стадию живого некорыстного интереса к пишущемуся вокруг. Толстые журналы я бросил читать еще во времена, когда они, как сговорились, стали печатать давно известное всем еще из самиздата, от "Реквиема" до бесконечного "Красного колеса", от которого и в тамиздатовском исполнении сводило скулы и ломило кости: прочитайте-ка лежа на диване тысячу страниц микроскопическим шрифтом набранного текста – оставленных почти нетронутыми мемуаров Гучкова с Милюковым, прослоенных довольно пресными, хоть на фоне страстей плагиатного Григория, половыми приключениями героя по имени, кажется, Воротынцев… Потом самиздатовский портфель иссяк и тиражи упали. И в опустошенное журнальное пространство, оставленное старшим поколением, на мутной волне крушения старого мира проникла новая поросль, цепко увившая всякий свободный пятачок этих руин своими стелющимися побегами. Обладая схожими замухрышистыми фамилиями, они и текстами своими были неотличимы один от другого, писали орнаментально, метафизично, темно и скабрезно. Читать все это было выше всяких сил. То, что нынче почиталось за новизну, было уже на моей памяти обкатано и переварено в подпольной московской словесности и теперь выглядело сущим ученичеством. Прежние поколения такого сорта продукцию не могли при всем желании вынести дальше кухни, чему немало помогала цензура, новые же получили возможность тиражировать все это с колес, что отбросило текущую словесность в пубертатный период. Нечего было и думать рецензировать их сочинения вот так, с налета. Тем более что в обозе этой новой оравы следовали критики из числа друзей и знакомых, с энтузиазмом курившие ей фимиам в критических разделах тех же изданий. У них, по-видимому, сложилось уже нечто вроде секты или даже сосуществующих нескольких сект, заполонивших оставленные вожделенные журнальные пространства, подобно тому как шайка скваттеров захватывает брошенный, еще не остывший дом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Последняя газета»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Последняя газета» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Последняя газета» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.