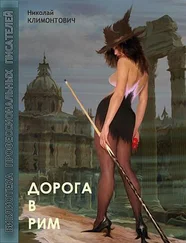Уже с облегчением покидая редакцию, я вдруг спохватился, что мне не только не хватило сообразительности понять, как мне действовать. Никто со мной не обмолвился ни словом о самом главном – что, собственно, я должен им писать.
Итак: признаться, я не сразу нашелся. Наверное, у меня была довольно глупая от изумления физиономия. Мне бы сказать моему нежданному соседу по редакционному купе, в свою очередь: мол, я-то здесь обозреваю текущую русскую словесность, а вот что здесь делаешь ты? – не помню, кстати, чтобы мы с ним когда-нибудь были на "ты", но он опередил меня:
– А я веду светскую хронику. Пишу под псевдонимом Сандро. Работенка не пыльная, местами даже отвязная. Ну, да ты читал, конечно: субботняя страничка на одиннадцатой полосе. Я, старик, уж года полтора в Газете. Но пописываю и еще туда-сюда: в "ОМ", в "Матадор". А ты, понятное дело, у нас новичок…
Собственные имя и фамилия у него были самые забубенные. Звался он на деревенский манер Коля Куликов, что, на мой взгляд, для карьеры беллетриста совершенно убийственно в силу полной неусвояемости читателем подобного имени и большого количества однофамильцев. Отчего, надо полагать, он теперь и заделался Сандро; впрочем, он был совершенный русак, ничего кавказского, так что с таким же успехом мог бы назваться хоть Авелем, хоть Тристаном. Кажется, он был вполне бездарным сочинителем, впрочем, объективности ради нужно сказать, что в ранние бесцензурные годы он накатал одну за другой несколько шустрых повестей, своего рода физиологических очерков с описаниями быта и нравов советской комсомолии (это был знакомый ему не понаслышке материал, он и в кромешные годы подвизался бойким очеркистом ведущей комсомольской газеты, причем специализировался не на моральной тематике, а шнырял все по горячим точкам, как это называется у работников масс-медиа), впрочем, его прозы я никогда подряд не читал. Знаю только, что эти его этнографические описания в недолгие времена всяческих разоблачений принимались на "ура": сцены с комсомольскими богинями в финских банях, махинации комсомольских кооперативов и тому подобная беллетризованная журналистика, прослоенная автобиографического, должно быть, свойства половыми сюжетами. Он нажил себе репутацию разоблачителя-либерала, на чем, думаю – хоть и неприлично считать чужие деньги,- хорошо заработал: все эти повестушки были тогда же экранизированы (я, грешный, всегда втайне мечтал о том же – даже единственная экранизация по тем временам давала сочинителю немалый шанс отдышаться), по одному или двум его прозаическим опусам шли пьесы в московских театрах – в его же инсценировках, и Коля Куликов долго ходил в модных авторах, даже ездил, по слухам, с лекциями в Гарвард, что, беря во внимание его, как мне мнилось, простоту, весьма забавно: на волне горбимании его переводили и в Америке слависты-энтузиасты. К тому же он считался у секретарш Союза писателей первым красавцем, слыл донжуаном, держался гоголем и был со всеми знаком. Можно сказать, и со мной тоже. Мы сталкивались с ним несколько раз в редакциях, и столько же раз нас представляли друг другу, причем Коля неизменно радостно восклицал: "Да мы знакомы!" – и, как сейчас выяснилось, действительно помнил мое имя.
Он был в ловком пиджаке, сверкающих штиблетах и рубахе-апаш, открывавшей его мощную красивую шею. Большинство сотрудников, с первого по третий этаж, в редакцию приходили, соблюдая, так сказать, американский стиль, в джинсах и свитерах, что, конечно, отражает лишь русское представление об Америке – попробуйте-ка в официальный тамошний офис заявиться на работу в таком-то виде, годящемся по тамошним представлениям лишь для воскресного пикника. Он был спортивно подтянут – не чета мне. Его бородка была подстрижена до уровня трехдневной щетины, что давало возможность разглядеть крупные малиновые губы сластолюбца; прическа, насколько я могу судить, была модной, хоть и делала его – вкупе с серыми, подернутыми уже едва заметно возрастной рыбьей мутью, простонародно близко посаженными быстрыми и хитренькими глазами -неуловимо похожим на полковника ЦРУ из американского боевика – седоватый ежик с подбритыми висками; от него довольно явственно припахивало дорогим одеколоном – смесь запахов спермы и арбуза – и, кажется, коньяком. Вальяжность его говорила о довольстве – в любом смысле этого слова; впрочем, он производил впечатление общей собранности.
Читать дальше