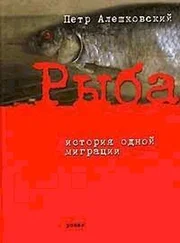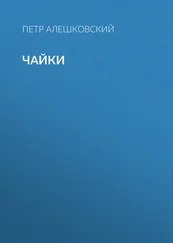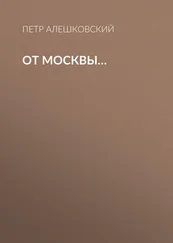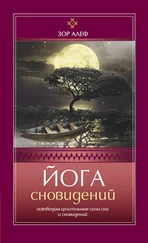Серафим Данилович, сказывают, от боли дара речи лишился: помыкивает, но ни крикнуть, ни сказать человеческим языком – железом каленым отдается, а Любаша в чулане заперта – ждет-боится-гадает-молится – всех святых поминает. Но долго так не выдержать – видно, защемило ему худо, набухать пошло. Схватил мужик бритву – да ать себя, и освободил на всю остатнюю жизнь. Тогда и завопил. И она в чулане заголосила – почуяла нехорошее. Народ сбежался – как-то бабки кровь заговорили, выходили его. А как Любушку из чулана освободили, так ведь сперва закричала, не разобравшись: «Не бейте моего Николая (так, стало быть, пахана звали), я, я во всем виновата!» Ну уж а как увидала да поняла, брякнулась в обморок, и с год, почитай, слова никто от нее не слышал. Потом постепенненько разговорилась.
Отец матушкин тогда приходил к Серафиму Даниловичу, просил прогнать девку, но тот не дал. Не прогнал, оставил при себе в служках, но на людях с ней не говорит почти, все больше жестами, а как там дома – нам неведомо. Наказал только на пятьдесят лет отлучением от церкви. А там ведь две тысячи первый год – а у них на тот год Страшный суд напророчен.
Сам то ведь вряд ли доживет – последнее время болеть стал, но никого в дом не допускает – она за ним и ходит.
Так и живут.
Он с той поры больше бритвы в руки не брал – община их целиком содержит, а он у них как чуть ли не святой почитается, из других городов к нему ездят – грехи небось им отпускает и руками, сказывают, раков изгоняет. А она, бедняжечка, вся с той поры в черном, как монашечка. И все стоит на коленях У окошка, вымаливает себе прощенье. Вот бы отпустил ее с Богом, матушку-то Любовь, какая ему с нее польза, никак их не понять.
И правда, свидетельствуем вам, сами мы из Настиного окошка наблюдали – дождик как раз ноябрьский моросил, холодно, а она стоит на коленях – фигурка черная, плащом только накинулась и стоит, и нет-нет да поклонится до земли, помост лбом припечатает.
Вот не знаем мы только, что у них за толк такой, ведь если Бог есть Любовь, то как такое объяснить?
Критик Игумнов побывал в Америке. В самом Вашингтоне. И еще в Нью-Йорке.
Нью-йоркское метро его напугало.
– Тюрьма, настоящая тюрьма, – рассказывал он своим слушателям в Москве. – И негры. Знаете, я не расист, в отличие от большинства наших эмигрантов, но негры попадаются страшные. Нищие, ленивые. Работать не желают – стоят на каждом углу, просят медяки, а там и на доллар ничего не купишь толкового.
Слушатели преданно вздыхали. Игумнов вздыхал ответно.
– Нет, вы не поверите: Манхэттен – это город… Желтого Дьявола! Мне, право, стыдно так говорить, почти по-газетному получается, но там много, очень много проблем, что нам и не снились: всё в кредит, вплоть до микроволновой печки, – средний американец опутан с головы до ног.
– А как там насчет колбасы? – этот вопрос почему-то задавали обязательно, хотя ведь знали же, гады, ответ, знали прекрасно.
– Нет, не в колбасе дело, поверьте, не колбасой же единой жив человек, – еще тягостнее вздыхал Игумнов, – объяснить вам это невозможно. Это надо видеть и чувствовать. Магазины «Сирса», например, не открывают, если на прилавках нету тридцати тысяч наименований продуктового товару. И что?
– И что? – завороженно вторили слушатели.
– Клянусь вам, ребята, это сложно выразить объемно, но… жить там душно – души там нету. Все в целлофане, все стандартно. Просто ужас.
Слушатели радостно кивали. Улыбались потаенной улыбкой. Гордо потирали руки. Короткой фразой Игумнов кончал рассказ:
– Нет там, пожалуй, одного – четвертого измерения, что ли.
И все принимались шумно пить водку и славить молодчину Игумнова. Правда, находились изредка и такие, что открыто заявляли с нескрываемой грустью: «Дурак ты, Игумнов», но таких мало слушали, а Игумнов сокрушенно качал головой – что ж поделаешь, своей головы другим не одолжишь. Но в споры не пускался – пресекал на корню.
Так повторялось с месяц. Игумнов устал. В Москве его больше ничего не держало – обещанную американскому журналу статью «Европа или Азия? (Похвальное слово евразийцам)» он написал живо, по свежим впечатлениям, и отправил телефаксом. Пить водку под американские разговоры надоело. Мюнхенская полугодовая стипендия находилась в стадии оформления. Теледебаты со съезда утомляли несказанно. Новые славянофилы были омерзительны.
– Конечно, все мы сегодня почвенники, даже я со своим вселенским охватом, – жаловался он своему ближайшему другу, – но пойми, когда они меня тянули, как деревенского мальчишку, в конце шестидесятых… тогда же время было другое – все вместе против, а теперь… Нет, середина, золотая середина – древние правильно говорили.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу