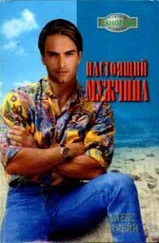Земляной пол хорошо утоптан – сейчас, летом, даже приятна его сырая прохлада. Стол, табуретка, кровати – все это деревянные щиты и щиточки разных размеров, положенные на сколоченные накрест бруски – козлы, так сказать. Вдруг Иридия Викторовича осенило, что все в Витькином доме стоит на букве «хэ» – только девчонка ( баба ) покоится на двух «пэ».
«Грудь дышит легко, легкие очищаются, лесистая дорога, гористый воздух, мы Вальку повалили и давай е... – обиделась, всю дорогу потом не разговаривала, все, говорит, расскажу. Ну, дошли, купили ей килограмм конфет «Радий», две бутылки кагора, посидели... Спрашиваем: ну, скажешь? Нет, говорит... А Коляну один раз жениться пришлось – или срок. Он потом заставил ее абортнугь – муж всегда заставит жену абортнуть, – а потом развелся...», – тянется неспешное повествование о странностях любви.
Кровати, стоящие на буквах «хэ», покрыты застиранными больничными одеялами, и, хотя подушки обшиты какими-то самодельными кружавчиками, Иридий Викторович вынужден признать, что он-таки богач – стандарты Управления здесь выглядят не просто культурностью, но – роскошью: и диван с полированными подлокотниками, и посвечивающая зеленым глазом радиола вместо драной воронки вороного репродуктора, и ковер с глуповато косящим оленем вместо спартанских плакатов с домнами и комбайнами... зато Витькины подоконники не нуждаются в цветах: они выходят как раз на уровень земли, и не комнатным растеньицам, сидящим на горшках, тягаться с бурным жизнелюбием дворового бурьяна (вокруг Витьки все брызжет через край кипучей вульгарностью). Прямо под открытым окошком, словно в доказательство неотвратимости плотских мерзостей, на Витькину собаку, юную Чаниту, пытается взгромоздиться простоватый, коренастый, как пионер из букваря, кобелишка, окруженный озабоченными, словно подающими ему советы, коллегами. Витька радостно тычет пальцем и хохочет, Иридий Викторович тоже застенчиво хихикает: собачья откровенность походя отметает все фальшивые попытки сдобрить кал мармеладом.
Неотвратимая пакость (сильна, как смерть!): то и дело видишь, как за немудрященькой кривоногой сучкой дружной компанией бегают и облезлый хромой барбос в репьях, и крысовидный уродец с ушами летучей мыши, и красавец дог, потрясающий генеральским иконостасом перезванивающихся медалей. Вот она – бесхитростная, неподдельная правда, и нечего к ней припутывать шепот, робкое дыханье, трели соловья.
Кобелишка-недоросток судорожно имитирует что-то для публики – для экспертов, но Чанита уворачивается, неохотно огрызаясь.
– Без помощи рук очень трудно попасть, – глубокое понимание звучит в голосе Толяна. – А если еще койка пружинит?.. – он словно требует сочувствия к пережитым трудностям. Перед Амуром все равны – он всех превращает в животных.
Появляется Витькина мамаша – на этот раз сторожиха швейного ателье. По напряжению зала угадывает его источник и долго, щурясь, присматривается к сцене за окошком, театрально сияющей на солнце, если смотреть из подвального полумрака.
– Толька, ну ты чего? – комически-жалобно протестует она.
– Что, мы их научаем, что ли? – со смехом оправдывается Толян (а может, и собаки кое-что поняли из его рассказов?), но резиновым сапогом запускает в окошко с удивительной меткостью. Коренастый соискатель визжит и кидается наутек, совершенно справедливо полагая, что при бабах вовсе незачем храбриться – это так же нелепо, как хорохориться в сортире. (У Толяна с Витькой всегда подчеркивается как особо унизительное обстоятельство: он ему при бабах по роже дал.)
Мамаша – среди лета в линялых лыжных штанах и такой же линялой футболке, на которой еще не до конца отстирался номер «три», отдергивает ситцевую занавеску за печкой и, подавленно охая, пробирается на свое спальное место – оно же любовное гнездышко. Натянувшиеся штаны на той ее части, которая исчезает последней, обрисовывают на подколенках еще пару тугих резинок, перерезающих набухшую водою плоть чуть ли не пополам, живот и все остальное, когда она бредет на четвереньках, колыхаясь, едва ли не волочатся по больничному одеялу – отвисли хуже, чем у биологички. Вся она такая унылая, водяночная, засаленная – особенно в местах, долженствующих быть особо привлекательными, – что без слов становится понятно: дети появляются не от пламенных страстей, а от недостатка брезгливости, от неопрятности, будто мухи или черви, – ну, в самом лучшем случае – по рассеянности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу