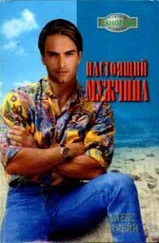Разделение на «мы» и «они» по национальному признаку доставило Иридию Викторовичу облегчение своей ясностью и неоспоримой простотой. Иридий Викторович побренчал дверной ручкой, и Антон, будто подслушивал под дверью, мигом выскочил из ванной, как встрепанный. Он был потный и раскрасневшийся, но в просветах все равно бледный – кровь с разбавленным, голубоватым молоком, подглазья же совсем траурные, как краешки тех гнусных коготков. А вот Шапиро румяный, свежий, напитавшийся кровью христианских младенцев и правотой, – уж они-то никогда в ней не сомневаются – и когда строят марксизм и социализм, и когда обратно их разрушают. В довершение Антон еще и держался рукой за печень. «У тебя болит что-то?» – не без раздражения (вечно у него какие-то глупости!) спросил Иридий Викторович и, повинуясь нерассуждающему наитию (так только и должен действовать человек: лишь нерассужда-ющее повиновение какой-то высшей силе рождает покой и безошибочность), внезапным ловким движением выдернул из-под сыновней майки полупомятую картинку, явно вырезанную из какого-то дешевого журнальчика – бумага отдавала газетой, а краски – линялой цветастой рубашкой. Впившись в картинку взглядом, Иридий Викторович немедленно перевернул ее вверх изнанкой (закопошились иностранные буковки – вот он, источник заразы). Антон побагровел до помидорного глянца (но все равно от висков продолжали стекать две разбавленные молочные реки). Иридий Викторович чувствовал, что и его лицо пылает.
Какая мерзость, как тебе не стыдно, сами собой рвались на волю готовые, какими они только и должны быть, слова – Иридий Викторович кричал шепотом, чтобы не разбудить Лялю, спавшую беспробудным сном Верных. Молочные реки разлились по опущенной физиономии Антона, а когда среди жидкой белизны остались лишь два черно-фиолетовых полумесяца, он вдруг прошептал едва слышно: «А что тут такого?..» Как что, ты сам, что ли, не понимаешь, лепетал Иридий Викторович, делая вид, что не лепечет, а кричит и притом не верит своим ушам, но на самом-то деле он в единый миг понял, что возразить ему нечего, потому что готовых слов уже не осталось.
«Ну, если ты сам не понимаешь...» – прибегнул он к последнему средству и брезгливо, за уголок понес картинку в уборную. Изорвав там клок газеты и гневно спустив воду с клочками в небытие (безошибочное повиновение продолжало действовать), Иридий Викторович, по совершении маскировочной казни над картинкой, принялся ее разглядывать в спокойной обстановке. «Как, что тут такого?» – повторял он, уже действительно подыскивая ответ и шаря во внутреннем мире, куда давным-давно не заглядывал, вдруг увидел, как где-то на затемненной его окраине горько-сладкой тенью проскользнула на своем помеле обезглавленная всадница – его первая и последняя любовь... Его первое и последнее счастье.
И ответ сыну был немедленно рожден безошибочным наитием: а то тут такого , что один человек не должен становиться развлечением для другого – тем более, двое, а особенно в таком деле, которое требует доверия и доверия, а потому и рассчитано максимум на двоих, а еще лучше – на одного участника. Но эти двое, похоже, именно развлекались и готовы были принять Иридия Викторовича в свой союз третьим. Девица весело косила на него смеющимся глазом, а парень подбадривал ее какой-то забористой шуткой. Предмет, когда-то показавшийся Иридию Викторовичу рукояткой помела, она держала во рту, как эскимо, – даже щека втянулась от аппетита.
Иридий Викторович почувствовал, что ему сделалась тесна пижама – не так, как раньше, но все-таки стоило бы облегчиться. Но у них с Лялей не принято было будить человека по пустякам, цинично обнаруживая свои низменные цели, – отправление должно было происходить как бы само собой, как бы незаметно для его участников. Иридий Викторович сунул картинку под майку и выглянул в коридор, придерживая себя за живот. Синее собр. соч. В. И. Ленина – уж туда-то ни одна душа не сунет носа. Том выбрать... лучше пятый – пятерку не забудешь: пять признаков империализма. И в статью лучше заложить такую, чтобы название было как-то связано с изображаемым... но, будто назло, почти все названия, как это вообще свойственно ленинскому наследию, имели теснейшую связь с современностью даже в самых экзотических ее проявлениях: «С чего начать?», «Крепостники за работой», «Борьба с голодающими», «Ответ С.-Петербургскому комитету». Иридий Викторович выбрал «Борьбу с голодающими»: она лучше всего вскрывала суть происходящего и начиналась с неподражаемого ленинского юмора: «Какую удивительную заботу о голодающих проявляет наше правительство!» Витька тоже любил проявлять такую заботливость: у него попросишь что-нибудь откусить, а он отвечает: «До-ре-ми-фа-со-ля-си, хлеба нету – х... соси».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу