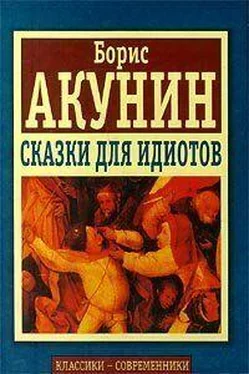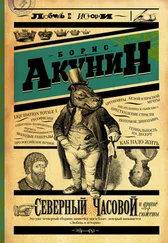Борис Акунин
Тефаль, ты думаешь о нас

Точным движением иллюзиониста Ягкфи сдернул со стеклянного куба белую драпировку, и взорам попечительской комиссии предстало последнее творение главного столичного ваятеля.
После долгой, по меньшей мере минутной паузы генерал-губернатор спросил, насупя редкие белесые бровки:
— Это у тя че?
— Она самая, — чуть покраснев, ответил Ягкфи. — Триумфальная арка в честь 55-летия Великой Победы. Хороша, да?
Его превосходительство сделался сначала багровым, потом сизым и под конец даже лиловым.
— Ты че? — медленно проговорил он, начиная сильно сердиться. — Ты, блин, че? Ты на чью мельницу? Ты, генацвали, меня совсем за сявку держишь? Мало мне твоей дули на Крымской! Чтоб я перед выборами заместо Василия Блаженного поставил на Красной площади вот эту… эту…
Генерал-губернатор задохнулся, так и не найдя достойного определения для творения президента Императорской академии изящных художеств.
Ягкфи быстро обвел взглядом сидящих за столом и понял, что дело плохо. Лице, у попечителей были потерянные, а заместитель генерал-губернатора по строительству, утонченная душа и поклонник югендстиля, застроивший всю Древнепрестольную чудесными зданиями а-ля Сецессион, кажется, был близок к обмороку.
Что ж, беднягу можно было понять. Арка и в самом деле смотрелась премерзко: гигантская белая загогулина, и сверху — урод-Освободитель, тычущий в небо фаллообразным автоматом ППШ. В нем-то, автомате, и заключался весь смысл Конструкции, но не объяснять же это членам комиссии!
Значит, опять, как во время утверждения памятника Отцу Русского Флота, придется прибегнуть к куммупенетрации, с тоскливым чувством подумал Ягкфи. А что прикажете делать?
Он посмотрел лиловому генерал-губернатору в маленькие, замутившиеся от ярости глазки, переключил растринг с шестой позиции на четырнадцатую и звучным, размеренным голосом заговорил:
— Снеся безвкусную эклектическую постройку, запирающую главную площадь демократической России в контур меж мавзолеем тоталитарного идола и напоминанием о кровавых годах опричнины, мы очищаем легкие нашей столицы для вдыхания свежего воздуха нового тысячелетия и меняем весь энергетический окрас кровеносной системы столицы с венозно-багряного на артериально-алый, светлый, жизнеутверждающий…
Через минуту импульс начал действовать, и генерал-губернатор, будто погрузившись в транс, стал одобрительно покачивать головой и слегка пошлепывать мягкими губами в такт велеречивой бессмыслице.
— Да, — сказал он наконец. — Да, в трынду Василия. Сука такая, вздохнуть площади не дает. Ставь свою хреновину.
Старика было жалко, но времени оставалось катастрофически мало — не до сантиментов. Остальные члены комиссии тут же единогласно утвердили проект, а пресс-секретарь его превосходительства подошел и, обласкав триумфатора бархатистыми восточными глазами, шепнул: «Все моими стараниями-с. С вас, душа моя, причитается». Жалкий мздоимец. Знал бы он…
Как обычно, куммупенетрация отняла много праны, и по широкой белой лестнице генерал-губернаторовой резиденции Ягкфи спускался совершенно обессиленным. Начальник охраны, ожидавший в вестибюле, лаконично, по-военному, доложил:
— Через главный нельзя. Демонстранты. Уже пронюхали. Разорвут. Пожалуйте через черный.
Но и у черного хода вышло не слава Тефалю. Едва Ягкфи шагнул из дубовых дверей под холодный ноябрьский дождик, как из-за колонны выскочил какой-то очкастый, бородатый и бросился на зодчего с кухонным ножом. Перехваченный бдительными телохранителями, забился в их крепких руках, истошно завопил, клацая зубами:
— За что, за что ты так ненавидишь Москву, зверь?! Что она, бедная, тебе сделала?!
Ягкфи распорядился отпустить несчастного безумца, а сам, опечаленный, сел в «паккард» и велел ехать домой. Бедные, заблудшие, Тефаль им судья. Не ведают, что творят.
Труднее всего было привыкнуть к этой слепой ненависти, хотя и москвичей, конечно, тоже понять можно. Подгоняемый неумолимым напором времени, он понаставил на Москве немало отвратительнейших чудищ. Сначала — бронзовый бестиарий у священной кремлевской стены, потом нарезанного ломтиками, да еще и пронзенного рогатиной змееныша на Наполеоновой горе, потом ключевой элемент всей Конструкции — кошмарного истукана над съежившейся Москвой-рекой. Сего последнего невежественные туземцы пытались подорвать, да уберег Всемилостивый Тефаль.
Читать дальше