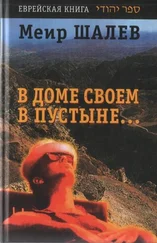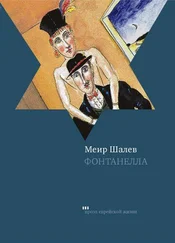Пока я справлялся со своей порцией, Яаков, не прекращая разговаривать, хлопотал у плиты над следующим блюдом, однако успевал при этом понемногу опустошать и свою тарелку. Себе он приготовил яичницу и овощной салат, приправленный лимоном, маслинами и брынзой, которые выглядели так аппетитно, что я невольно облизнулся, несмотря на несметное количество разных лакомств, которые Яаков выставил на стол передо мной.
— Ты помнишь наш первый ужин? — неожиданно спросил он. — Ведь с тех пор прошло почти десять лет.
— Конечно, помню. Только вот забыл, чем ты угощал меня.
— Бедные повара, — деланно вздохнул Шейнфельд, — ведь нельзя спеть их котлеты, продекламировать пирог или станцевать суп.
— Книгу ведь тоже нельзя проглотить, да и музыка — несъедобна, — возразил я.
— Съедобна, съедобна, — сказал Яаков. — Мелодия не похожа ни на что другое в мире. Скрипка и флейта поют красивее, чем любая певчая птица, а художник творит то, чего даже в природе не существует. Но вкусно покушать можно и без всяких там поваров. Те горбатятся на душной кухне часами, однако никакое жаркое не сравнится со вкусом первого огурца, созревшего после Пасхи, или черной сливой «санта-роза» с нежной потрескавшейся шкуркой.
Я ничего не отвечал, лишь изредка обменивался взглядом с портретом Ривки на стене.
Когда-то, еще до моего рождения, Ривка Шейнфельд была первой красавицей в деревне. Ее красота стала притчей во языцех, хотя никто уже не помнит точно ни цвета ее волос, ни черт лица. В молодости Ривка отказывалась фотографироваться из скромности, а много лет спустя, по возвращении, избегала фотографов совсем по другой причине — из-за старости. Так что на стене кухни в Тив'оне висит ее единственный снимок, однако Ривка в рамке не так красива, как та, что в историях и памяти людей.
— Повар, — не унимался Яаков, — он всего-навсего сваха между…
— Между мясом и приправами, — нашелся я.
— Нет, между едой и тем, кто ее ест, — сказал Яаков и уселся рядом со мной.
— Вкусно?
— Очень.
— Значит, я неплохая сваха. Эс, майн кинд.
Свой ответ Юдит передала дяде Менахему через одного человека с центрального рынка, скупавшего у того рожки. Менахем вскрыл конверт, пробежал глазами письмо и поторопился с новостью к брату.
— Она придет на следующей неделе.
Моше совсем растерялся.
— Нужно приготовить что-нибудь особенное?
— Никогда не готовь ничего особенного для женщины, которую ты не знаешь, — улыбнулся Менахем, — у тебя наверняка ничего не выйдет, и вы оба только растроитесь. Она пишет, что ей нужен только отдельный угол. Позови-ка сюда детей, я хочу с ними поговорить.
Удобно усадив Наоми и Одеда на своих коленях, он объявил им, что вскоре в дом приедет работница.
— Я знаю эту женщину, она очень добрая. Мамы, конечно, она никому не заменит, но будет ухаживать за вами, стирать и готовить вкусную еду. Для всех так будет гораздо лучше — и для вашего папы, и для нее самой. Через несколько дней мы все поедем встречать ее на вокзал.
В ту ночь Рабинович проснулся от деревянного стука и возни, доносившихся со двора, а когда выбежал на улицу, то увидел Одеда, мостившего в сплетении толстых нижних ветвей эвкалипта некое подобие собачьей конуры из деревянных досок.
— Ты что здесь делаешь?
— Я строю себе гнездо на мамином дереве.
— Посреди ночи?
— Нужно успеть, — серьезно заявил мальчуган, — пока работница не приехала.
Несколько дней пролетели незаметно, и вот, в день приезда Юдит, часа за три до прибытия поезда, Моше бережно извлек из шкафа самую нарядную одежду, растопил поленьями печь и согрел воды.
— Нужно вас хорошенько отдраить, — приговаривал он, растирая мыльные спины детей огромными добрыми лапами, — а то она, не дай Бог, подумает, что здесь живут какие-то оборванцы.
Мокрый и нахохлившийся Одед угрюмо сидел под горячей струей воды, а Наоми, напротив, сияла и мурлыкала от удовольствия. Густые облака пара, запах мыла и шершавое прикосновение полотенца к гусиной коже спины наполняли ее неповторимым трепетом ожидания.
Покончив с купанием детей, он искупался и сам, стоя на деревянном ящике, точно медведь на речном валуне, и обливая себя из резинового шланга. Холодная вода струилась по телу, жесткая мочалка беспощадно терла кожу, а у ног лежал покрытый пеной брусок мыла. Затем Рабинович уселся в пахучей тени эвкалипта на низкую табуретку, служившую обычно для дойки коров. Наоми, вооружившись большими ножницами, обрезала ему светлые вихры, отросшие на затылке, и причесала венец редких волос, окружавших лысину.
Читать дальше