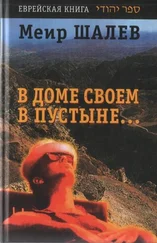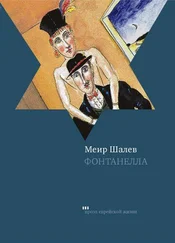Хочешь чего-нибудь сладенького, Зейде? — продолжал Яаков, выдержав трагическую паузу. — Может, мне следовало бы подождать с этой историей несколько лет… Сейчас я приготовлю тебе лакомство, которому научился от одного итальянца.
Он торопливо поднялся, словно пытаясь сгладить впечатление от своего рассказа.
— Это очень просто: нужны лишь яичные желтки вино и сахар. Поди-ка сюда и посмотри. — Он осторожно вылил содержимое яйца себе на ладонь, пропустил белок меж растопыренных пальцев и слегка встряхнул на ладони оставшийся желток. — Видишь, Зейде? Он не растекается. Так проверяют свежесть яиц.
Тем же образом он добыл еще два желтка, переложил их в миску, добавил немного сахара и ароматного вина.
— Что может быть лучше? Желток — это то, чем нас мама кормила в детстве, с него начинаются все воспоминания. Вино — это пища для души, а в сахаре страсть и сила. — Яаков помешивал, тер и взбивал, поставив миску на кастрюлю, наполненную кипящем водой. — Это пахнет гораздо лучше, чем мыло, и наверняка вкуснее. Когда-нибудь я научу тебя этому рецепту, — добавил он, снимая миску с водяной бани Яаков окунул в нее указательный палец и призвал меня поступать в том же духе. — Это итальянская штучка, их излюбленный десерт, — с удовольствием облизнул губы он. — Тебе она нравится? Мне тоже… Рабинович хоть кормит вас чем-нибудь сладким?
— Не так чтобы очень… — ответил я.
В ту пору сладости не были в обиходе. В доме Рабиновича мы намазывали краюху черного хлеба вареньем и пили чай «вприкуску», положив на язык кусочек сахара. Эта привычка осталась у меня до сих пор, ибо так горечь и сладость не смешиваются, а ощущаются одновременно.
Моше, считавший шоколад и пирожные предметами роскоши и неуместным баловством, любил рассказывать о страшной нищете, царившей в доме его родителей, такой, что беднягам приходилось пить чай «вприглядку» — подвешивать над столом кубик сахара на ниточке.
— И вы окунали сахар в стакан? — спрашивал я.
Моше улыбался снисходительной улыбкой человека с тяжелым прошлым.
— Нет, Зейде, на сахар мы только смотрели, а чай пили несладким.
— Не верь моему папе, Зейде, — сказала мне как-то с глазу на глаз Наоми. — У них в России была целая куча денег, лесные угодья, склады и дом со слугами, а отец, когда был мальчиком, съел больше пирожных, чем все мы, вместе взятые.
Дождь моросил не переставая. Моше соорудил для детей большие капюшоны из мешковины и построил небольшие деревянные санки, обитые снизу жестью. Отправляясь на ферму, он водружал на них молочные бидоны, а вечером, по дороге обратно, тащил санки по грязи до дома директора склада и заходил за детьми. Наоми и Одед усаживались в санки между пустых бидонов и ехали на папе домой. Поначалу они развлекались и хохотали, выкрикивая «Но-о-о!» и «Тпр-р-у!», но вскоре игра надоела и им, и Рабиновичу. Лямки санок немилосердно впивались в плечи, толстые, мускулистые ноги Моше тонули по щиколотку в грязи, высвобождаясь из нее с отвратительным чавканьем.
Проведя весь день за работой в поле, Моше вернулся домой совершенно разбитым. Он устало отмахнулся от детей, немедленно повисших на нем с просьбой поиграть с ними в «лютого медведя», и, упав животом на кровать, громко заохал. Прибежала Наоми и, сбросив ботинки, взобралась на отца. Перебирая маленькими ступнями мышцы его спины, она немного облегчила боль в натруженной спине.
Затем дети отправились спать. Моше сварил на завтра яйца и картошку в мундирах, настрогал хозяйственного мыла, разжег костер во дворе и вскипятил провонявшие простыни Одеда. Он провозился за уборкой и стиркой до поздней ночи. Свалившись в постель в дурном расположении духа, Рабинович лежал в темноте, прислушиваясь к ноющим от усталости мышцам.
Год выдался урожайным, но в хозяйстве Моше дела никак не клеились. Коровы выкинули два раза подряд, мангуст нашел лазейку в курятнике и перегрыз десятки цыплят, а дожди затопили половину плантации грейпфрутов.
Днем Моше обрабатывал землю, копаясь в размокшей грязи, а во снах проникал еще глубже и, касаясь костей Тонечки, взмывал вверх, к свету, который исходил от золотой детской косы, лежащей в деревянной шкатулке с орнаментом из ракушек. Затем сон, как правило, обрывался, и Моше просыпался от прикосновения влажного тела Одеда, который, описавшись, приходил к его кровати и забирался под одеяло. Рабинович ждал, не шевелясь, пока тот заснет, а затем бережно возвращал сына на место. Но Одед просыпался опять, и снова раздавались в темноте скрип кроватных пружин, стук ложки о банку с вареньем и частый топот детских ног, направляющихся в сторону Моше.
Читать дальше