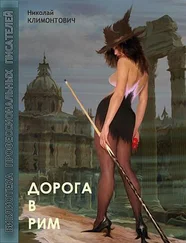Наивный и доверчивый гость, я целыми днями пропадал на улицах, покладисто снимая истуканов на набережной, таящих под внешней беспристрастностью жгучую ненависть к тем, кто лишил их родных египетских песков. Я шлялся по Марсовому полю и запечатлевал нездешних нимф Летнего сада, хлопотал не забыть бы сфотографировать литье его ограды, я добрался и до Лавры, где нашли – досрочное, как правило, – успокоение столько славных покойников. Я покорно таскался по бесконечным анфиладам эрмитажных залов, зачем-то занося в блокнотик имена авторов и названия картин, на которых не было изображено ни единого лица русского человека. Я стоял перед избыточно сочными, но от этого не менее мрачными натюрмортами больших голландцев, разглядывал рубенсовские мясные телеса, как у той лагерной поварихи, и пышные воротники испанских грандов, косившихся на меня с высокомерным прищуром. И все фиксировал – откуда только взялась у меня, безалаберного, такая бездна прилежания! Должно быть, я отравился псевдоевропейским духом всей этой декорации колыбели революции и испытывал прилив благоговения – ведь я просто обязан был трепетать и восхищаться, иначе чего стоило бы мое славное путешествие в распахнувшийся мне нечаянно самостоятельный мир.
Мне и в голову не приходило шага ступить в сторону с туристической тропы, где в нос шибанул бы запах помоев и душу перевернули бы виды обшарпанных подъездов с побитой мозаикой и потрескавшимися витражами времен ар нуво, ржавых свай, торчащих из гнилых каналов, зассанных подворотен, запущенных дворов-колодцев, никогда не видевших солнечного света, всей страшной и убогой изнанки этого призрачного города, построенного по прихоти одного медного человека, чей бронзовый вздыбленный конь навсегда наступил копытом на русскую змею,- построенного на болотах и на человечьих костях…
Я подхватил Светлану и повел ее в тот самый Север, куда уж проложил тропу. Я ухаживал за ней, невзначай касаясь то руки, то коленки, предвкушая. Эта девица, наверняка, была давно не девочкой и вполне доступна. Она курила, иногда подпускала в своей речи матерка, да и я сам, потеряв невинность на летней даче, чувствовал себя хватом. Она даже не была вульгарна, но простовата, из рабочей, наверное, семьи, и досугом ее были гуляния с такими же, как она сама, подругами в парке и танцы в клубе. Сухое вино она пила залпом, а мороженное ела, напротив, жеманясь, высоко поднимая ложечку и отведя в сторону мизинец. Она легко согласилась пригласить меня к себе, сказала пленку мне перекрутишь.
Ее обиталище тоже было на Васильевском, но дальше от центра, ближе в гавани. И моя-то линия не сверкала чистотой, в ее же районе было что-то разбойное, опасное, фонари горели один через два, остальные были разбиты. В подъезде пахло кошками, помоями, ступени были щербаты, а лифт не работал. Мы, поддерживая друг друга, добрались до ее третьего этажа, она отперла замок, в прихожей было тепло. Ты куртку с собой возьми, прошептала она и подтолкнула меня налево,
мне тетка сказала, чтоб не думала водить… Сама же повесила пальто на вешалку, и я заметил краем глаза, что там висит милицейская шинель с погонами, и на погонах было по одинокой желтой звезде. Она на цыпочках подошла к двери в комнату, открыла, ввела меня, прикладывая палец к губам, – какая-то неясная тревога охватила меня.
Но когда дверь закрылась и она прошептала у меня и выпить есть, мое волнение улеглось. Она достала початую бутылку 777, заткнутую скрученным клочком газеты.
Выпив, она заявила, что пленку перезарядить не умеет. Я подсказал, что надо бы выключить свет и накрыться с головой – чтоб не засветило, поняла она. Мы забрались под одеяло, она пахла сдобной чистотой сушившегося во дворе белья, дешевым мылом, и волосы у нее оказались легкими и мягкими, она посапывала, пытаясь угадать, что делают с фотоаппаратом мои руки. Конечно же, пленка скоро была забыта и началась пододеяльная возня. Мне удалось стянуть у нее из-под вязаной кофты лифчик, а также расстегнуть резинки от чулок.
Но трусы она не желала отдавать, сжимала ляжки, бормоча с первого раза не приучена. А ведь наша дворовая любовная наука гласила, что если трусы сняты, то дело, считай, сделано. Борясь, мы скатились с громким стуком с дивана на пол, она брыкалась, я умолял, она громко шипела пусти, кому говорю. Но все-таки трусы были стянуты, и в дверь громко и властно постучали. Ну вот, панически прошептала она, я же говорила, дурак, теперь прыгай во двор, куртку бери…
Читать дальше